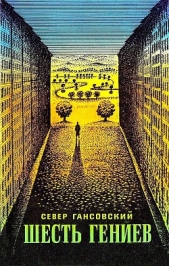Анюта — печаль моя

Анюта — печаль моя читать книгу онлайн
Написанное с живым чувством и искренностью повествование о том, как девочке Анюте жилось до войны, во время немецкой оккупации и после освобождения, разворачивается в картину жизни советской деревни.
Детство и юность в годы суровых испытаний, тяготы военного периода и, казалось бы, беспросветное будущее подрывают хрупкую и ранимую героиню, заставляя ее сделать отчаянный шаг… И всё же, переступив черту, приняв судьбу «деревенской дурочки», Анюта находит в себе силы остаться чистой, простой, светлой душой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А вся земля вокруг была Дятчихина. Бывало, едет в коляске, лошади с колокольцами, звон стоит. Мамин деверь служил у нее в кучерах. Где сейчас в Мокром ферма, там на горочке ее дом стоял, высокий, на столбах, с балконами. Когда бар раскулачили, там школа была, потом она сгорела, аккурат на Успение.
— В двадцать первом году сгорела школа, — с грустью вспомнила мамка. — Сожгли дураки.
Бабка кивнула, хотя для нее двадцать первый год был пустым звуком. Она время пластала на глаз, по великим и страшным событиям — войнам, революциям, при царе, при Ленине — и по своим праздникам — на Спас, на Рождество. И от этого бабкино время, не гонясь за точностью, было более осязаемым и имело свой неповторимый дух. Даже малое дитя не спутает «при царе» и «при Ленине», Масленицу и Великий пост. Обычное время, отмерянное по годам и месяцам, быстро отлетало в небытие и забывалось, а бабкино прочно закреплялось в вечности.
— А помнишь, Коль, перед самой войною Скворец купил автомобиль? — вдруг засмеялась мамка.
— В четырнадцатом году. Это был первый автомобиль в нашем уезде, и катался Скворец по нашим проселкам, пугал лошадей. Наши лошади не видали машин, непуганые были.
— Баб, а Скворчиха — это его женка, та, что все время играла на рояле? — вспомнила Анюта.
— С утра до вечера играла, не вставала. Война прошла, революция прокатилась — она все играла. Пришли их раскулачивать мужики, барыня играет. Ну, мужики ее не тронули, кому она нада!
Старшие, Ванька с Любкой, хотя и послушивали краем уха эти разговоры, не скрывали своего невысокого мнения о допотопных бабкиных временах. Отец иной раз уличал старушку, когда она путалась в событиях, перескакивала ни с того ни с сего с помещиков на поддевки с кичками. Батя смеялся, сердился, махнув безнадежно рукой, уходил в придел, к печке покурить, но и оттуда прислушивался и поправлял бабулю. Анюту манила и завораживала бабкина старина. В который раз она готова была слушать про Зорина, скворцовский автомобиль, одиноко гудевший на проселках, про барыню-пианистку. То ли баба Арина рассказывала так интересно, то ли жизнь тогда была ярче и праздничней. И ничего, что иногда в рассказах не было порядка и последовательности, главное — все правда.
— Баб, а ты видела Дятчиху своими глазами, какая она была, почему отдала деньги на больницу?
— Ну невжешь не видала, к Дятчихе ходили бабы лечиться от всех болезней, когда вылечивала, а когда и не. И я как-то сбегала. И вот стала барыня помирать и говорит своему племяннику: «Сергуня, я тебе все богатство оставлю, но только чтоб ты построил больницу в Мокром, смотри ж, я на тебя надеюсь!» И он исполнил.
А учительница говорила, что все баре — угнетатели и кровопийцы, в растерянности думала Анюта.
— Все это сказки и легенды, — прищурился батя на лампу. — А в сказках правда идет рука об руку с вымыслом, и все же не мешало бы вам знать историю своего края. Слыхали вы, что наша деревня из переселенцев зародилась, лет сто пятьдесят назад какой-то немец купил эти земли и привез из Спас-Деменска двенадцать семей — Савкиных, Никуленковых, Колобченковых, Киряков, Ивановых, Авдеевых.
Но Ванька с Любкой не проявили никакого интереса к тому, что было сто пятьдесят лет назад и поросло быльем.
— А в двенадцатом году французы здесь прошли и все деревни наши сожгли. Мой дед еще помнил, как французы по дворам шныряли, искали фураж для своих лошадей.
— Пап, ты бы еще вспомнил это, как его — монголо-татарское нашествие, — смеялась нахальная Любка.
— Нелюбопытные вы какие-то, ничего вам неинтересно, — укоризненно вздыхал отец. — Когда нам дедушка рассказывал про старину, мы не дыхая слушали по десять раз одни и те же истории.
— Ну и зачем это нам, всякое старье отжившее? — хорохорился Ванька.
Все зимние довоенные вечера слились в памяти Анюту в один долгий вечер: в горнице топилась маленькая печка-голландка с лежанкой, большую русскую печь в приделе топили по утрам, на улице кехал мороз, а они уютно посиживали в большой горнице, и каждый занимался своим делом, молодежь — уроками и книжками, батя, чертыхаясь, писал отчеты и докладные. Бабка запрещала поминать нечисть в доме, но батя все равно забывался, потом горячо винился. Мать запомнилась Анюте с шитьем, бабка со своей самопрядкой. Ловко сучилась из-под ее пальцев шерстяная нитка, тихо жужжало колесо и постукивала педаль под ногой — тук, тук. Иной раз, чтобы позабавиться, Любка открывала бабкины сундуки и доставала что-нибудь примерить из старинных нарядов. Допотопный шушун одним своим видом заставлял ее изнемогать от смеха. Анюта с удовольствием набрасывала на плечи тулупчик, присборенный на талии и расшитый узорною тесьмой. Бабуля была очень довольна таким вниманием к своему добру.
— Километров за десять от нас Казенные Падерки, там переселенцы жили откуда-то с Белоруссии. У них полушубки скроены не так, как у нас — клиньями, широкие, а у нас, видите, на сборках. Мы их так и прозвали — «широкожопики», они носили паневы, рубахи вышитые, занавески-фартуки, полушубки с карманами. А у нас сперва были одни рубахи и подзорник вышиваный, потом уже стали ткать сарафаны. Наткем, накрасим… Если краски нет, с ольхи надерем, с ольхи получается бордовая краска. Штаны чернили в кузне. С кузни грязь эта облетает, наберешь ведро сажи, принесешь, разведешь на огне. По подолу на сарафане две обкладочки делали — розовую и белую. Шали большие на руках носили, а на голове хороший шелковый подшальник с кисточками.
— А я еще помню, бабы носили повойники, я еще застала, — вмешалась мамка.
И бабе Арине много лет пришлось носить повойник, когда вышла замуж, но потом пошла другая мода — женщины все больше стали повязывать платки.
— А моя мама еще нашивала сороку! — как о каком-то чуде поведала им бабка. — Сорока — высокая такая, как шапка-кубанка, ясная, блестящая, на ней нашивали монисты, пронизочки, но это только в праздник надевали, а в будний день — повойник. А на ногах, бывало, лапти, под лаптями — онучки белые, веревочками крест-накрест перевязанные. Подобуешься, идешь, и кажется — так красиво, хорошо! Потом пошли ботинки. Побежим в Мокрое в церковь или в больницу, ботинки за спиной несем.
Любка, чтобы порадовать бабулю, облачалась в фиолетовый сарафан домашнего сукна, рубаху с вышитыми рукавами и, поглядывая в зеркало, снисходительно похваливала:
— Гардеробчик у тебя ничего был, баб, из этого сарафана можно юбку перешить.
И баба Арина в который раз начинала рассказывать:
— Сначала ничего у меня не было, росла без батьки, некому было обряжать, потом пообжилися, стали на поденку ходить, нашили себе обнов.
Бабка не понимала, почему бы Любке не носить ее любимые сарафаны и шушун. Но Любка про шушун и слышать не хотела и просила мамку настегать ей ватную телогрейку, на эти телогрейки большая мода пошла, некоторые девки в Мокром уже щеголяли. Баба Арина придумала про эти телогрейки прибаутку: вата пытает, далеко ли хата, а овечка вокруг человечка.
— После школы уеду в город, заработаю денег и первым делом куплю себе шубу, мутоновую, и еще много чего, — мечтала Любка.
— Печаль ты моя, дай тебе Бог, — ворчала на эти мечтанья бабка, — а не будет шубы, так походишь и в моем шушуне, как помру.
Бабушка Аринушка жила долго, в детях ей не было счастья, дети ее рано умирали. Зато она вырастила внуков и внучку — Анютину мать, потом правнуков — Любку с Ванькой, успела выняньчить и Анюту с Витькой. Хорошо жилось в деревне тем, у кого были старики, весь дом на них держался. Родителей своих Анюта видела не часто, особенно летом. Мать с утра до вечера на ферме, а батя был мужик грамотный, учился в церковно-приходской школе в Мокром. А грамотный — значит, кочуй по должностям, он и учительствовал, и в бригадирах ходил и председателем сельсовета был, а перед войной и председателем колхоза. А они, все четверо, произрастали на руках прабабушки Аринушки и нисколько о том не тужили, довольствуясь тем, что батька с мамкой у них все-таки есть.