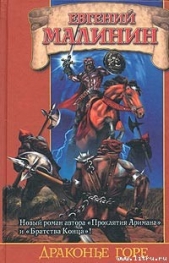Баллада о горестном кабачке

Баллада о горестном кабачке читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Это зачем еще?
– Затем, что я ей родня, – ответил горбун.
Близнецы и Кочерыжка Макфэйл перевели взгляды на мисс Амелию.
– Я – она самая, – сказала она. – Что значит – «родня»?
– А то и значит, что… – начал горбун. Ему явно было не по себе – вот-вот заплачет. Он водрузил чемодан на нижнюю ступеньку, но руку от ручки отнимать не стал. – Мать моя – Фэнни Джесап, и родом она из Чихо. А из Чихо она уехала лет тридцать назад, когда за первого мужа своего вышла. И я помню, рассказывала она, что была у нее сводная сестрица по имени Марта. А в Чихо мне сегодня сказали, что это ваша матушка и есть.
Мисс Амелия слушала его, чуть склонив голову набок. Обедала она по воскресеньям одна; сородичи у нее в доме никогда не толпились, и сама она в родственники ни к кому не набивалась. У нее в самом деле была когда-то двоюродная бабка в Чихо, извоз держала, но та бабка давным-давно богу душу отдала. Из прочей родни имелся лишь четвероюродный брат – он жил в двадцати милях в другом городишке, но с братом этим мисс Амелия не очень ладила: случись им повстречаться, плюнули бы друг другу под ноги. Другие люди время от времени очень старались дотянуть до мисс Амелии какие-то далекие родственные ниточки, но совершенно без всякого успеха.
Тут горбатый понес какую-то долгую околесицу – перечислял имена и места, слушателям на веранде неведомые и к делу отношения, видимо, не имеющие.
– Стало быть, Фэнни и Марта Джесап – сводные сестрицы, а я – сын Фэнни от третьего мужа. Поэтому мы с вами… – Он нагнулся и принялся развязывать чемодан. Руки у него походили на грязные коготки ласточки, и к тому же дрожали. Чемодан был доверху набит всяким барахлом: тряпьем, старым хламом, похожим на детали швейной машинки или на что-то вроде, столь же бесполезное. Порывшись в пожитках, горбун извлек старый снимок. – Вот и портрет – как раз мамочка моя со сводной сестрицей.
Мисс Амелия не говорила ничего. Челюсть ее медленно двигалась из стороны в сторону, и по лицу можно было сказать, о чем она думает. Кочерыжка Макфэйл взял у горбуна снимок и повернул к свету. На фотографии сидели двое бледных иссохших детишек, годиков двух-трех. От лиц у них остались лишь крохотные белые пятна. Снимок мог выпасть из чьего угодно альбома.
Кочерыжка Макфэйл протянул его обратно и ничего не сказал, а только спросил:
– Ты откуда идешь-то?
Голос горбуна прозвучал неуверенно:
– Я путешествовал.
Мисс Амелия по-прежнему молчала. Лишь стояла, опершись на косяк, и рассматривала сверху горбуна. Генри Мэйси нервно смаргивал и потирал руки, а потом соскользнул с нижней ступеньки и растворился во тьме. Добрая он душа, и положение, в котором оказался горбун, тронуло его сердце. Вот и не захотелось сидеть и ждать, когда мисс Амелия выставит пришельца со своего участка взашей и вообще погонит вон из города. Горбун стоял со своим открытым чемоданом на нижней ступеньке – он шмыгал носом и губы у него тряслись. Понял уже, наверное, в какую мрачную передрягу попал, – как тоскливо оказаться в таком городишке чужаком, с чемоданом всякой рухляди, да еще и набиваться в родню к мисс Амелии. Как бы там ни было, горбун уселся на ступеньки и вдруг расплакался.
Нечасто увидишь, как в полночь к лавке подходит горбун, садится и начинает ни с того ни с сего плакать. Мисс Амелия смахнула со лба волосы, а мужчины от неловкости переглянулись. Во всем городке стояла полная тишь.
Наконец, один из близнецов вымолвил:
– Черт бы меня побрал – ну вылитый Моррис Файнстин.
Все закивали и согласились, ибо у этого выражения имеется особое значение. Горбун же зарыдал еще пуще, поскольку не знал, о чем они толкуют. А Моррис Файнстин, между тем, жил в этом городке много лет назад. Просто-напросто проворный, шустрый еврейчик, он плакал, когда его в лицо называли христоубивцем, и каждый день ел белый хлеб с консервированной лососиной. Но на него свалились всякие напасти, и он переехал в Сосайэти-Сити. С тех пор, если человек жеманился хоть как-нибудь, или же мужчина начинал нюни распускать, про такого говорили, что он вылитый Моррис Файнстин.
– Гляди, как убивается, – произнес Кочерыжка Макфэйл. – По делу, должно быть.
Мисс Амелия двумя медленными нескладными шагами пересекла веранду, спустилась по ступенькам и остановилась, задумчиво разглядывая незнакомца. Робко, одним длинным бурым пальцем дотронулась она до горба у него на спине. Горбун еще всхлипывал, но уже потише. Ночь была тиха, а луна по-прежнему сияла своим мягким ясным светом. Холодало. И тут мисс Амелия сделала редкую вещь: достала из бокового кармана робы бутылку и, обмахнув горлышко ладонью, протянула горбуну. Ее и в кредит-то выпивку продать стоило долгих уговоров, а чтобы хоть каплю нацедила за так – и вообще дело неслыханное.
– Пей, – сказала она. – Хоть глотка отживеет.
Горбун перестал плакать, тщательно облизал с губ слезы и сделал как велено. Когда он выпил, мисс Амелия сама медленно приложилась, согрела жидкость во рту и покатала ее по нЈбу, а потом выплюнула. И сделала новый глоток. У близнецов и десятника была своя бутылка, за которую они заплатили.
– Гладко пошла, – сказал Кочерыжка Макфэйл. – Мисс Амелия, у вас всегда все ладно выходит.
Виски, который они пили в тот вечер (два здоровенных пузыря) – штука важная. Без него трудно было бы представить, что все так выйдет. Без него, может, и кабачка бы никакого не было. Ибо выпивка мисс Амелии обладала особым свойством – чистая, язык обжигает, но оказавшись у человека внутри, долго потом его греет своим заревом. Но и это еще не все. Известно, что если лимонным соком на чистом листе бумаги написать записку, то никакого следа не видно. Однако, если бумагу потом поднести к огню на миг, буквы побуреют и все станет ясно. Вообразите теперь, что виски – это огонь, а смысл послания – то, что ведомо лишь душе человека; вот тогда-то и можно понять всю цену выпивке мисс Амелии. ВсЈ незамеченное, все мысли, таившиеся на задах темного разума, – всЈ вдруг признается и понимается. Прядильщик, знавший лишь один свой станок, судок с обедом, постель и снова станок, – выпьет такой прядильщик чуть-чуть в воскресенье, да наткнется на лилию болотную. И возьмет цветочек в ладонь, подержит, всмотрится в золотую хрупкую чашечку – и сладость вдруг сойдет на него, что режет пуще боли. А ткач вдруг глаза подымет да увидит впервые холодное, зловещее мерцание полночного январского неба, и глубокая жуть от собственной малости сердце ему остановит. Вот такое, значит, и бывает, когда человек виски мисс Амелии выпьет. И страдать он может, и от радости заходиться – да только истина ему уже явилась, душу свою согрел он и увидел смысл, там сокрытый.
Пили они заполночь, пока луну не затянуло облаками так, что ночь потемнела и похолодала. Горбун по-прежнему сидел на нижних ступеньках, жалко скрючившись и уткнувшись лбом в колено. Мисс Амелия стояла руки в карманах, одной ногой на второй ступеньке лестницы. Молчала она долго. На лице ее застыло то выражение, какое часто видишь у немного косоглазых – точно они глубоко задумались: выражение одновременно очень мудрое и совершенно безумное. Наконец она произнесла:
– Я не знаю, как тебя зовут.
– Лаймон Виллис, – ответил горбун.
– Ну, заходи, что ли, – сказала она. – В печке с ужина осталось, хоть поешь.
Лишь несколько раз в своей жизни приглашала мисс Амелия кого-то в дом, если не хотела людей как-то надуть или выманить из них денег. Потому мужчины на веранде и почувствовали – дело нечисто. А позже между собой судачили, что, должно быть, прикладывалась она к бутылке у себя на болотах добрую половину дня. Но как бы дело ни обстояло, мисс Амелия с веранды ушла, а Кочерыжка Макфэйл с близнецами тоже по домам разошлись. Она заперла переднюю дверь на засов и огляделась – на месте ли товар. А потом пошла на кухню, что располагалась за лавкой. Горбун плелся за нею, волоча чемодан, шмыгая носом и вытирая его рукавом грязного пальто.
– Садись, – велела мисс Амелия. – Сейчас только разогрею, чего тут осталось.