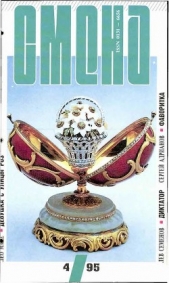Торжество похорон

Торжество похорон читать книгу онлайн
Жан Жене (1910–1986) — знаменитый французский писатель, поэт и драматург. Его убийственно откровенный роман «Торжество похорон» автобиографичен, как и другие прозаические произведения Жене. Лейтмотив повествования — похороны близкого друга писателя, Жана Декарнена, который участвовал в движении Сопротивления и погиб в конце войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Господин Жене, — произнесла она, жеманно протягивая мне белую мягкую, полную ручку, — это мой друг.
Эрик улыбался. Он был бледен, хотя его кожа еще не утратила воспоминаний о золотистом загаре. Когда он силился быть предупредительным, его ноздри сжимались и белели. Хотя у меня еще не зародилось подозрение, что он по натуре склонен к вспышкам гнева, я испытал некое стеснение, словно перед человеком, вот-вот готовым взорваться. Вне всякого сомнения, он был возлюбленным палача города Берлина. При всем том, оттого что он стоял передо мной, его лицо окутывала своего рода стыдливость, она-то и подвигла меня к тому предположению об его истинном состоянии, коим я еще поделюсь. Он был в штатском. Прежде всего я разглядел его ужасную шею, торчащую из ворота голубой сорочки, закатанные рукава которой обнажали мускулистые руки. Ладонь была тяжелой и крепкой, с обгрызенными ногтями. Он выдавил из себя:
— Мне известны ваши дружеские чувства к Жану…
К моему немалому удивлению, он заговорил очень мягким, почти униженным голосом. Тембр был гортанным, как у большинства прусских голосов, но его умягчала некая нежность, и проступали какие-то высокие нотки, чью вибрацию хотели — намеренно или нет — приглушить.
— Добрый день, мадам, добрый день, мсье.
Улыбки женщины и военного были такими жесткими, возможно, из-за суровых неподвижных складок у рта, что мне вдруг почудилось: я угодил в капкан, в волчью пасть, а присматривают за мной эти улыбки, пугающие, как неотвратимо распахнутый зев западни. Мы присели.
— Жан был таким нежным…
— Да, мсье. Не знаю никого, кто бы…
— Вы так и будете твердить «мсье»? — рассмеялась мать. — Вы же близкий человек. Да и длинно это — фразы тянутся и тянутся до бесконечности.
Какое-то мгновение мы с Эриком, скованные, смущенно глядели друг на друга, но почти тотчас, движимый неведомой силой, я с улыбкой первым протянул руку. Перед таким наскоком не устояли и улыбки тех двоих, утратив былую свирепость. Я заложил ногу за ногу, и установилась истинно дружеская атмосфера.
Эрик дважды кашлянул. Тихий сухой звук великолепно сочетался с его бледностью.
— Знаете, он очень робок.
— Привыкнет. Не такое уж я чудовище.
Словцо «чудовище», вероятно, эхом откликнулось на «привыкнет». Возможно ли, чтобы я без внутреннего разлада впустил в свою интимную жизнь одного из тех, в войне против кого Жан готов был отдать жизнь? Ибо спокойная смерть этого двадцатилетнего коммуниста на баррикаде восемнадцатого августа сорок четвертого от пули ополченца, очаровательного во всей красе своего возраста и обаяния, сделалась позором моей жизни.
Секунд шесть я пережевывал во рту это «привыкнет», ощущая какую-то почти невесомую меланхолию, которую можно объяснить только зрелищем кучи песка или булыжников. Нежность Жана была довольно близка, поскольку навевал ее на память аромат тяжелой грусти, источавшейся — одновременно с очень специфическим запахом — от холмиков штукатурки и битого кирпича с внутренними полостями или без оных, но явно выпеченного из очень нежной массы. Лицо мальца было рыхловато и от произнесенного мною «привыкнет» явно раскрошилось еще сильнее. Среди развалин после сноса домов я часто попирал ногами подобную кирпичную крошку пригашенного пылью красного цвета, и там все было так нежно, хрупко, расточено на мелкие частицы, овеяно ароматами уничижения, что чудилось: я ставлю подошву прямо на лицо Жана. Впервые я встретил его четырьмя годами ранее, в августе тысяча девятьсот сорокового. Ему тогда было шестнадцать.
Сегодня же я сам себе отвратителен: я переварил и сделал частью себя проглоченного заживо единственного возлюбленного, который меня любил. Я — его могила. Земля — ничто. Погибель. Что-то растительно-членистое без числа вырастает из моего рта. И его кипарис. Животворящий, он наполняет ароматом мою разверстую грудь. Большая слива ренклод раздувается от распирающего ее молчания. Молчания смерти. Из ее глаз вырываются пчелы — из глазниц со зрачками, вытекшими из-под размокших век. Съесть подростка, расстрелянного на баррикадах, пожрать юного героя — вовсе не просто. Мы все любим солнце. У меня рот в крови. И пальцы. Зубами я разрывал плоть. Обычно трупы не истекают кровью. Все, но только не твой.
Пусть он погиб на баррикадах восемнадцатого августа сорок четвертого года, но среди майских зеленых ветвей его живоносный побег уже обагрил мои уста. Пока он был жив, его красота меня ужасала, равно как и мудрая красота его речи. Тогда-то я страстно желал, чтобы он поселился в могильном рву, в мрачной и глубокой ямине — единственном жилище, достойном его монструозного присутствия, где бы он жил на коленях или на корточках при свете свечи. К нему бы приходили, чтобы услышать его суждения через просвет в плитах склепа. Разве не так он жил во мне, исторгаясь через мой рот, анус и нос запахами, кои химизм его разложения накоплял во мне?
Я еще люблю его. Несравнима с любовью к женщине или девушке страсть мужчины к подростку. Очарование его лица и грациозность тела одолевали меня, словно проказа. Вот его портрет: очень длинные светлые волнистые волосы. Глаза серые или зелено-голубые, но невероятно блестящие. Вогнутый изгиб носика был по-детски мягок. Голова чрезвычайно прямо сидела на тонкой стройной шее. Маленький рот с очень выпукло очерченной нижней губой почти всегда оставался сомкнутым. Тело было тонким и гибким, шаг — стремительным, с ленцой.
Сердце у меня наливается кровью и легко поддается дурноте. Меня выворачивает прямо на белые ноги, на подножие гробницы каррарского мрамора — моего обнаженного тела.
Эрик сел на стул спиной к окну с обвисшими по краям длинными белыми гипюровыми занавесями. Воздух был густ, с трудом позволял дышать. Я почувствовал, что окон никогда не открывали. Ноги солдатика были слегка раздвинуты, и виднелся деревянный передок стула, на который он оперся рукой. Синие полотняные рабочие штаны, слишком ему тесные, плотно облегали ляжки и ягодицы. Скорее всего, они принадлежали Жану. Эрик был красив. Что-то подтолкнуло меня к убеждению, что ему неудобно на этом соломенном стульчике, и оттого на меня поглядывал его «габесский глаз». Тут мне вспомнился один из вечеров на улице Мучеников, и за несколько секунд я вновь пережил этот вечер. Меж головокружительных известняковых уступов домов улочка карабкалась к грозовому небу, внимающему песне, которую горланила группка из трех юнцов и взводного, а также их топоту ног и отчаянной жестикуляции, способных поведать свою собственную историю. По пути сетки с провизией встречных простоволосых женщин колотили их по икрам.
— … ну, а мне больше и не надо: тут-то я ему и зафигачил пальцем в глаз.
Бравый вояка произносил «глаз», как «глузд». Мальцы шагали в ногу, пригнув головы и легонько ссутулив плечи, их засунутые в карманы руки упирались в напряженные мышцы ляжек: от крутого подъема у них малость перехватывало дыхание. Рассказ взводного Красули был ощутимо мясистым. Они даже примолкли. В них зрело готовое снестись яйцо, наполненное кишащим смятением множества трудолюбивых любовей под сенью москитных сеток. Молчание позволяло этому смятению пронизать их до мозга костей. Достаточно, казалось, самой малости, чтобы из их ртов под видом песни, стишка или ругательства полились эти расцветавшие в них впервые любови. Стеснительность делала их угловато грубыми. Самый молодой из них, Пьеро, шагал с высоко поднятой головой и взирал на все ясными глазами, чуть приоткрыв рот. Он грыз ногти. Слабость не позволяла ему всегда сохранять спокойствие или хотя бы власть над собой, но он испытывал огромную благодарность к тем, кто его подавлял, тем самым принося мир его душе.
Пьеро чуть повернул голову, его полуоткрытый рот уже был той трещинкой, через которую наружу выходила вся его нежность; через нее же мир входил в него, чтобы его поиметь. Он мило поглядывал на Красулю. Красуля, будучи чувствительным, несколько застеснялся порождаемого им смятения. Он гордо откинул назад голову, его маленькая ножка, обретя уверенность, попрала воображаемого противника, и с коротеньким смешком он повторил: