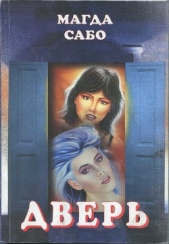Пилат

Пилат читать книгу онлайн
Очень характерен для творчества М. Сабо роман «Пилат». С глубоким знанием человеческой души прослеживает она путь самовоспитания своей молодой героини, создает образ женщины умной, многогранной, общественно значимой и полезной, но — в сфере личных отношений (с мужем, матерью, даже обожаемым отцом) оказавшейся несостоятельной. Писатель (воспользуемся словами Лермонтова) «указывает» на болезнь. Чтобы на нее обратили внимание. Чтобы стала она излечима.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старая знала, Винце что-то подозревает. С тех пор, как у него появились эти странные, дикие боли и он начал стремительно худеть, он стал подозрительным, прислушивался к разговорам, старался поймать близких врасплох, чтобы уловить какое-нибудь слово, обрывок слова и узнать наконец, что с ним такое, почему он быстро теряет силы и откуда берется та ни на что не похожая, огненная мука, которую он ощущает все чаще и чаще. «Я бы не могла так прикрикнуть на него», — думала старая, даже в отчаянии своем испытывая гордость, что вот Иза — умеет.
— Пошли, мать, прогуляемся в кафе, посидим, выпьем кофе. А вы не пойдете с нами?
Винце улыбался тщеславно, поглядывая на свои тощие, как спички, ноги: ишь, про него еще можно подумать, что он способен ходить в кафе. Он покачал головой, Иза махнула рукой и сказала, что ж, нет так нет, все равно он бы там только на женщин глазел. Подхватив пальто, Иза, как всегда с детских лет, когда уходила из дому, коснулась щекой его красивого, высокого лба. «Смотрите тут, не вздумайте изменять маме, пока нас не будет!» Винце только кивал с лукавым видом; даже глаза его, уже несколько недель неузнаваемые, чужие, настолько чужие, что старая удивлялась только, что это произошло, почему они стали вдруг такими маленькими и в то же время словно более продолговатыми и сумрачными, — даже глаза его вдруг загорелись. Винце обожал Изу, они всегда ласково поддразнивали, поддевали друг друга, разговор их совсем не походил на разговор отца с дочерью. Это был разговор приятелей, разговор брата с сестрой, разговор сообщников — бог знает кого.
В кафе ни мать, ни дочь к заказанному кофе даже не притронулись; они смотрели на запотевшие стаканчики, вертели их в пальцах. Лицо у Изы было совсем белым. «Месяца три проживет, — сказала она. — Антал выпишет ему лекарства. Я оставлю денег, покупай ему все, что он захочет, всякую чепуху. Не вздумай экономить, мать!»
В кафе играла музыка; старой вдруг показалось, будто они с Изой — палачи, которые, сидя здесь за красными занавесями, творят нечто кровожадное. В том, что Винце через три месяца не станет, а она сейчас знает, что его так скоро не станет, — ей виделась какая-то холодная жестокость: будто бы Винце был узником, приговоренным к смерти, и как раз сейчас ей сообщили час его казни. Она не решилась спросить у Изы, не ошибся ли Деккер в диагнозе; Деккер, она знала это от Изы, да и от Антала, был не из тех, кто ошибается. Музыка стала громче, за соседними столиками, глаза в глаза, сидели влюбленные; официантка спросила, не принести ли им взбитых сливок. Иза, опередив мать, кивнула утвердительно.
Сливки были густы и приторны. Неся ложку к кофейной чашке, старая уронила сливки на стол и сконфуженно принялась соскабливать их со скатерти. «Попробуй собраться с силами, — сказала Иза. — Я тебе расскажу сейчас, когда и чего можно ожидать». Сначала старая заставила себя прислушиваться к словам дочери, но потом ей снова вспомнилось, что Винце проживет еще самое большее девяносто дней — и она перестала что-либо понимать, красные занавеси на окнах поплыли перед нею. «Мать, — сказала Иза, — у нас очень мало времени, мы должны поговорить обо всем сейчас!».
Вот так спокойно и серьезно Иза обращалась к ней всегда, когда хотела дать ей какие-то наставления. Старая вдруг почувствовала: сейчас она закричит в голос, сбросит со стола сливки — конечно, ничего такого она не сделала, и сил у нее на это не было, да и не посмела бы она; порыв этот охватил ее на мгновение и тут же прошел — чем-чем, а истеричкой она не была никогда. Она только спросила Изу робко: «Ты-то приедешь домой?» Спросила с мольбой в голосе, про себя в это время бессвязно, торопливо, путано упрашивая бога, чтобы он пожалел ее, внушил Изе: пусть та согласится, будет рядом, не оставляет ее одну с умирающим. Ведь Иза — врач, Иза — их дочь, она всегда и во всем им помогала. Иза напряженно, с усилием глотнула, как будто кофе, который она поднесла наконец ко рту, оказался не жидкостью, а каким-то плотным сгустком, и сказала: «Я не могу».
Мать понимала ее мысли и чувствовала, что дочь права. Даже если бы Иза смогла получить отпуск или хотя бы просто приезжала чаще, чем раньше, Винце это сразу бы насторожило, он стал бы докапываться до причины и в конце концов догадался бы о том, о чем ему никак нельзя было догадываться. Иза всегда приезжала домой в определенный срок, раз в месяц, а сверх того лишь на именины и дни рождения родителей да на годовщину их свадьбы. Конечно же, она не может приехать надолго, старая должна остаться наедине с Винце, наедине с ужасным знанием того, что Винце скоро умрет. И даже твердое обещание Изы, что Антал все время будет рядом, поможет, когда потребуется, — даже это обещание мало что меняло. Антал — не Иза.
У нее полились слезы, она не видела, скорее чувствовала, что на нее смотрят люди, сидящие за соседними столиками. Иза не пыталась ее успокоить — лишь взяла ее руку и держала в своей. И мать судорожно уцепилась за холодные, без колец, пальцы дочери.
Такси бежало меж голых платанов; на улице Шандор большая, вздымаемая ветром афиша приглашала на какой-то вечер с танцами, Антал, сидевший рядом с шофером, оглянулся, услышав ее вздох. Старая не ответила на его взгляд, закашлялась, отвернула голову, стала разглядывать дорогу, ворон, чистящих перья на деревьях. Антал добр с нею, он и к Винце был добр; когда-то они Антала очень любили. Но Антал оставил Изу, и этого нельзя ни забыть, ни простить.
От радиаторов в коридоре клиники несло жаром. Воздух был сух, в нем стойко держался запах тряпок, которыми протирали пол. Привратник сам открыл перед ними дверь лифта, и старая даже в этот страшный час порадовалась про себя: предупредительная улыбка привратника как бы символизировала любовь и внимание одновременно и Изы, и Антала. Ее усадили в маленьком холле, в изгибе коридора; пока Антал ходил за профессором — Деккер работал в клинике последний год, — она вынула из сетки носовые платки, лимоны, потом сложила их обратно. Ей было не по себе от мысли, что сейчас придется обсуждать что-то с чужим человеком; но она взяла себя в руки, понимая, что профессор выйдет к ней не ради нее, даже не ради Винце: клиника выражает свое уважение к Изе.
Где-то в самом дальнем уголке души у старой все еще теплилась надежда, что не все еще кончено. Но когда в коридоре появился Деккер и направился к ней, сетка в ее руке вдруг отяжелела, словно не лимоны лежали в ней, а свинец. Деккер был профессор, и на лице его она прочла окончательный ответ на все свои невысказанные, робкие вопросы.
Позже Иза выспрашивала у матери, что говорил профессор. Старая пыталась собрать в памяти услышанное тогда, но ничего у нее не вышло. Она помнила лишь, что Деккер положил руку ей на плечо; да и этот доброжелательный его жест запечатлелся в памяти потому только, что она тут же стряхнула с себя его руку; душу ее наполнила неистовая горечь и страстная неприязнь к Деккеру; об этом человеке, который в течение трех месяцев делал для Винце все возможное и невозможное, готов был собственную душу отдать, чтобы его спасти, — она думала сейчас как об убийце; и еще она думала: этот профессор — ровесник ее мужу. Так почему же он — здоровый? В дверях палаты она остановилась, не в силах двинуться с места.
Антал предупредил ее, что Винце с самого рассвета без сознания и, видно, уж не придет в себя, во сне перешагнет черту небытия. Старая все же надеялась на что-то; не может он не очнуться, когда она окажется рядом; не может быть, чтоб сорок девять лет, прожитых в таком согласии, не пересилили бы смерть… Но что, если он, почувствовав ее присутствие, заговорит слабым своим, почти детским голосом и потребует с нее ответ за все, что было и что скоро кончится, за жестокие свои, страдания, за уходящую жизнь? Что, если сегодня, в этот последний свой день, он все-таки догадается, на пороге чего стоит, и заплачет, как когда-то давно, в начале двадцатых годов, когда потерял работу; тогда он, в ночной рубашке, встал ночью у ее кровати и со слезами, катящимися по щекам, сказал: «Помоги мне, Этелка!» Что, если он снова попросит у нее помощи, теперь, когда она знает, что надежды нет, и будет молить о жизни, о невозможном? Винце так любил жизнь, он и нищим, и безработным, и калекой принял бы, как величайший подарок, одну возможность существовать на земле, просыпаться по утрам, вечерами ложиться в постель, — на земле, где дует ветер, светит солнце, где тихо шелестит или надоедливо барабанит по крыше дождь. Что ж, тогда она вынуждена будет — в последний раз — солгать ему, как лгала изо дня в день последние несколько месяцев. Старая больше боялась того, что Винце уйдет, так и не попрощавшись с ней; лучше уж пусть он еще раз в полном сознании обратит к ней полные страха глаза и мысли его, после немых страданий или после тяжелого полузабытья от одуряющих лекарств, отразятся в его взгляде обвинением или жалобой.