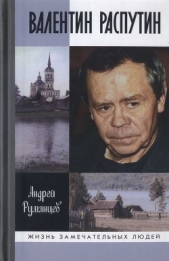Повести и рассказы
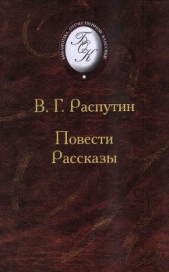
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Томка-а-а-а!
Это голос отца, Тамара Ивановна узнала бы его где угодно, и слышится он точно бы из детства. Разве не может быть такое, что предостережения наших родителей, которым мы в свое время не вняли, блуждают в горах и лесах до той самой поры, до той совпадающей черты, когда требуется их точное повторение. Ошеломленная, Тамара Ивановна замирает.
— Томка, воротись! Томка-а-а! — истошно зовет отец, и гром опять грозно гремит вослед его словам.
Тамара Ивановна понимает, что надо торопиться, и успокаивается. Торопиться не возвращаться, как велит отец, а вперед, только вперед. Другой дороги ей нет. И, больше уже ни на что не отвлекаясь и не оглядываясь, чувствуя лишь душное дыхание солнца, с окаменевшим сердцем, уверенно, как по расстелившейся тропке, шагает в сторону двух стоящих на краю обрыва сосен.
— Томка-а-а!
Голос отца еще стоял в ушах, в глазах еще продолжали мерцать очертания двух корявых, изломанно торчащих на каменистой земле деревьев с короткими верхушками и вразнобой торчащими ветками, еще бухал уныло гром, так и не добившись дождя, когда Тамара Ивановна разомкнула глаза и огляделась. Не сразу вспомнила она, где оказалась. Сон был так тяжел и так липок, такой душной пеленой застелил он сознание, что и выдираться из него пришлось долго и мучительно, не понимая, откуда и куда выдираешься. Но когда наконец выдралась, когда с тяжелым вниманием огляделась и вспомнила, кто она и где она, в ужасе она давнула себя так, приподняв и молотом опустив верхнюю часть туловища на нижнюю, что захрустели косточки. Шел четвертый час пополудни. Она проснулась в поту, больше часа плавилась под кипящим солнцем, теперь ее продрал озноб. И все же прежде чем подняться, огляделась еще раз. Был ли голос отца только оттуда, где разгуливала она по лесной пустыни, не соединился ли он, как и гром небесный, еще постукивающий в отдалении, с реальностью отсюда? Не прячется ли где отец, наблюдая за нею, не его ли оберегающее заклинание прозвучало для нее громким криком?
Она медленно поднялась со своих кирпичиков и вдруг рванулась в развороте: здесь. Сумка, остававшаяся за спиною все это время, пока она спала, была на месте. Ее, спящую, уткнувшую голову в колени, должно быть, и верно приняли за бомжиху, утомленную лазаньем по городским свалкам. Схватив сумку и нащупав в ней знакомые очертания, Тамара Ивановна медленно, запретив себе торопиться и не веря уже ни в какую удачу, сделала те самые десять шагов, которые позволяли увидеть на противоположной стороне улицы дверное бельмо, — и увидела: возле двери толкутся трое или четверо кавказцев. Не помня себя, пересекла она улицу, расчетливо обошла с правой стороны, ближней к стене, кавказцев, убедившись, что ее парня среди них нет, отодвинула одного из них плечом, чтобы протиснуться и показать себе, что никого и ничего она не боится. Так же медленно, стараясь не сбиться с полусонной неповоротливости, обманывая ею себя и стараясь обмануть кого-то еще, поднялась в прокуратуру. Коридор был почти пуст, только в дальнем его конца маячили две фигуры. Дверь к прокурору прикрыта и безмолвна. Тамара Ивановна с безжизненным спокойствием подала ее от себя и в образовавшуюся щель увидела: как раз там, возле самой двери справа, где только вчера сидела она сама, маясь в нетерпении, когда их с Анатолием примет прокурор, сидел теперь тот, кто и был ей нужен. В синей джинсовой куртке, с обросшим лицом и хищно опущенным носом, он стал поднимать глаза. Успел ли он их поднять и узнать ее, она не знала, но за дверью было по-прежнему тихо. Вот теперь все сжалось и напружинилось в ней до предела; казалось, еще мгновение, и она бы вырвалась из чего-то удерживающего и взвилась в воздух, но за это мгновение она успела поднять к груди сумку, на ощупь отыскать и наготовить в ней то, что было нужно, и выставленной вперед сумкой снова приоткрыть дверь. Теперь он узнал Тамару Ивановну, лицо его перекосилось то ли от брезгливости, то ли от ужаса. Сумка грохнула выстрелом. Тамаре Ивановне на всю жизнь запомнилось: парень, казалось, начал привставать, чтобы броситься на нее, но это грудь его приподнялась в последнем вздохе, и, прихватив ее рукой, он откинулся на спинку стула, тотчас оттолкнулся и медленно повалился вперед. Упав, он придавил дверь, за которой сидел конвоир, приведший его на «акцию». Когда конвоиру удалось выскочить в коридор, там никого, кроме перепуганных посетителей в дальнем его конце, не было.
Тамара Ивановна успела заскочить в кабинет напротив. Она совсем не помнила себя, но что-то вроде величайшего удивления последней волной окатило ее, когда навстречу ей с не меньшим удивлением поднялся из-за стола Цоколь. Столбняк поразил обоих. В кабинете был еще один человек, кавказец, он пытался спрятать в ладонях пачку денег. В ярком, брызжущем искрами, беспамятстве Тамара Ивановна бросила сумку с вырванным от выстрела боком посреди кабинета и, крикнув: «А теперь меня спасайте!» — кинулась к открытому окну и перевалилась через подоконник на крышу хозяйственного пристроя. Грохот раздался такой, будто разверзлась земля. По грохочущему покату крыши, высоко задирая ноги, она добежала до края и, не глядя, не примеряясь, скинулась вниз. Упала неловко и по-куриному распласталась, разбросав руки, точно крылья, не делая попыток подняться.
Потом ее тронули за плечо — огромным усилием она подняла глаза. Над нею стоял пожилой человек в синей форменной рубашке с короткими рукавами. Он наклонился, заглядывая ей в лицо, и, подавая руку, сказал хрипловато, с неподдельным участием:
— Пойдем, милая!
Часть вторая
Анатолий с работы вернулся рано и никого дома не застал. Он потом многажды невольно соединял эти мгновения: в те же самые секунды, когда он открывал дверь квартиры, недоумевая, куда все подевались, Тамара Ивановна открывала дверь в приемную прокурора. По времени совпадало: примерно половина пятого. Он мог бы не ходить на работу, как это сделала жена, позвонив еще накануне и предупредив, что ее не будет, да поверилось ему, что после возвращения дочери жизнь, пусть и в жестокой ране, да все-таки прилегла к их общему семейному телу. Долго еще будет болеть и саднить, и никогда нельзя будет неосторожным движением прикоснуться к месту этой раны, но надо же как-то и выздоравливать. А для этого для начала надо вернуться к прерванным занятиям, восстановить порядок жизни, и чем раньше, тем лучше.
Но никакой из него был не работник, и, потолкавшись неприкаянно среди таких же, как он, не знающих, чем заняться, шоферов, он еще больше убедился, что надо уходить с автобазы. Делать там нечего, работы нет, договоров нет, половина машин разобрана на запчасти. Но очень уж некстати было уходить именно сейчас: по ране раной, по разрыву еще один разрыв. В таких случаях лучше держаться последовательных действий. Как при ходьбе: когда одна нога отрывается от земли, чтобы перенестись вперед, тяжесть тела в это мгновение опирается на вторую, установившуюся ногу. И так по очереди: одной-второй, одной-второй — можно уйти далеко при любой лихорадке и претерпеть многое. Отказала одна опора, обопрись на другую, но не обе же сразу прочь с копылков.
Он не знал еще, что как раз в эти минуты судьба нанесла по его семье, не дав опомниться от первого, второй удар, еще более непереносимый.
Было ли у него предчувствие новой беды, какая-нибудь стискивающая душу тоска или сбивчивые удары сердца, передающиеся от запаленного сердца жены? Может быть, и было. Сыновья постель опять оказалась неприбранной, в Светкиной комнате пахло нежилым, в кухне тоже стоял какой-то странный запах, точно побывало что-то чужое. К остаткам вчерашнего пиршества, затолканного в спешке как попало в холодильник, никто не прикасался. Анатолий взял рукой холодную сосиску, пожевал, обходя снова комнаты и вглядываясь в их выстуженность, потом позвонил матери. «Да, — ответила Евстолия Борисовна, — Светка здесь, у меня, Тамара Ивановна звонила и приказала Светке без ее зова сидеть безвылазно, кто бы ее ни потребовал». — «Давно звонила?» — «Давно, перед обедом». — «Как Светка? Не плачет?» — «Ой, Толя, да лучше бы она поплакала… Когда слеза есть, она все, любой камень, растопит». Не прощаясь, он положил трубку, машинально, не зная, куда себя деть, опять поднял и долго слушал напористые гудки.