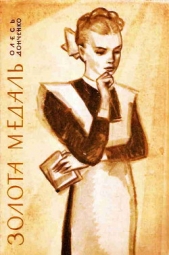Золотая тетрадь

Золотая тетрадь читать книгу онлайн
История Анны Вулф, талантливой писательницы и убежденной феминистки, которая, балансируя на грани безумия, записывает все свои мысли и переживания в четыре разноцветные тетради: черную, красную, желтую и синюю. Но со временем появляется еще и пятая, золотая, тетрадь, записи в которой становятся для героини настоящим откровением и помогают ей найти выход из тупика.
Эпохальный роман, по праву считающийся лучшим произведением знаменитой английской писательницы Дорис Лессинг, лауреата Нобелевской премии за 2007 год.
* * *
Аннотация с суперобложки 1
Творчество Дорис Лессинг (р. 1919) воистину многогранно, среди ее сочинений произведения, принадлежащие к самым разным жанрам: от антиколониальных романов до философской фантастики. В 2007 г. Лессинг была присуждена Нобелевская премия по литературе «за исполненное скепсиса, страсти и провидческой силы постижение опыта женщин».
Роман «Золотая тетрадь», который по праву считается лучшим произведением автора, был впервые опубликован еще в 1962 г. и давно вошел в сокровищницу мировой литературы. В основе его история Анны Вулф, талантливой писательницы и убежденной феминистки. Балансируя на грани безумия, Анна записывает все свои мысли и переживания в четыре разноцветные тетради: черная посвящена воспоминаниям о минувшем, красная — политике, желтая — литературному творчеству, а синяя — повседневным событиям. Но со временем появляется еще и пятая, золотая, тетрадь, записи в которой становятся для героини настоящим откровением и помогают ей найти выход из тупика.
«Вне всякого сомнения, Дорис Лессинг принадлежит к числу наиболее мудрых и интеллигентных литераторов современности». PHILADELPHIA BULLETIN
* * *
Аннотация с суперобложки 2
Дорис Лессинг (р. 19119) — одна из наиболее выдающихся писательниц современности, лауреат множества престижных международных наград, в числе которых британские премии Дэвида Коэна и Сомерсета Моэма, испанская премия принца Астурийского, немецкая Шекспировская премия Альфреда Тепфера и итальянская Гринцане-Кавур. В 1995 году за многолетнюю плодотворную деятельность в области литературы писательница была удостоена почетной докторской степени Гарвардского университета.
«Я получила все премии в Европе, черт бы их побрал. Я в восторге оттого, что все их выиграла, полный набор. Это королевский флеш», — заявила восьмидесятисемилетняя Дорис Лессинг журналистам, собравшимся возле ее дома в Лондоне.
В издательстве «Амфора» вышли следующие книги Дорис Лессинг:
«Расщелина»
«Воспоминания выжившей»
«Маара и Данн»
«Трава поет»
«Любовь, опять любовь»
«Повесть о генерале Данне, дочери Маары, Гриоте и снежном псе»
«Великие мечты»
Цикл «Канопус в Аргосе: Архивы»
«Шикаста»
«Браки между Зонами Три, Четыре и Пять»
«Сириус экспериментирует»
«Создание Представителя для Планеты Восемь»
«Сентиментальные агенты в Империи Волиен»
Готовится к печати:
«Кошки»
* * *
Оригинальное название:
DORIS LESSING
The Golden Notebook
* * *
Рисунок на обложке
Светланы Кондесюк
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я также понимала, что мне скажут. Это понимание, скорее, правильнее было бы назвать «озарением». В эти недели безвременья и безумия подобные «озарения» случались у меня нередко, порою шли одно за другим, однако же облечь в слова полученный в них опыт не представляется возможным. А между тем они были столь мощными, как и стремительные откровения во сне, которые остаются с человеком и после пробуждения, и навсегда, что полученные через них знания стали неотъемлемой частью моего жизненного опыта, который со мной пребудет до самого конца. Слова. Слова. Я играю со словами в надежде, что какое-то их сочетание, возможно даже и случайное, сумеет передать то, что я хочу сказать. Может, было бы лучше обратиться к музыке? Но музыка нападает на мое внутреннее ухо как противник, враг, это не мой мир. Все дело в том, что невозможно описать подлинный опыт. Я думаю, и не без горечи, что ряд звездочек, который мы, бывает, видим в старомодных романах, возможно, подошел бы больше. Или — какой-то символ, может быть круг или квадрат. Все что угодно, но только не слова. Люди, которые там были, в том месте внутри самих себя, где все слова и формы, порядок растворяются, меня поймут, все остальные — нет. Но, стоит только там хоть однажды побывать, как возникает чувство ужасающей иронии, ужасное пожимание плечами, и вопрос не в том, что с этим надо как-то биться и бороться, это отрицать, вопрос не в том, правда все это или ложь, ты просто знаешь, что это там есть, всегда. Весь вопрос в том, что надо этому отвесить вежливый поклон, и сделать это, так сказать, учтиво, как будто кланяясь старинному врагу: прекрасно, я знаю, что ты там есть, но мы же должны сохранять формы, правда? И может быть, условием самого нашего существования является как раз то, что все мы сохраняем формы, создаем шаблоны, — вы думали когда-нибудь об этом?
Итак, я могу сказать лишь то, что перед сном я «поняла», зачем мне надо погрузиться в сон, что скажет мне киномеханик и что мне предстоит узнать. Хотя я это уже знала; поэтому сам сон был чем-то вроде слов, которые звучат при обсуждении уже произошедшего события, он был неким подведением итогов того, что я уже усвоила, нужным лишь для усиления эффекта.
Как только пришел сон, киномеханик мне сказал голосом Савла, очень практично: «А теперь мы просто еще раз все прокрутим». Я смутилась, потому что я боялась, что мне опять покажут тот же набор фильмов — глянцевых и нереальных. Но на этот раз, хоть фильмы и не изменились по сюжету, их качество, однако, стало совсем другим, как я себе во сне сказала — «реалистичным»; в них появилось что-то грубое, исконное, порывистое и неровное, как в ранних русских или немецких фильмах. Куски фильма надолго замедлялись, зависали, пока я их внимательно смотрела, завороженно вбирая в себя те детали, на осмысление которых мне не хватило времени в реальной жизни. Всякий раз, когда я понимала, что именно хотел мне показать киномеханик, он говорил мне: «Вот так-то, леди, так-то». И поскольку он делал мне подсказки, я смотрела еще внимательнее. Я поняла, что все то, чему я придавала значение, или чему сам ход моей жизни придал особое значение, теперь легко и быстро проскальзывало по экрану, это было несущественно. Компания молодых людей под эвкалиптами, например, или Элла, лежащая на траве с Полом, или Элла, пишущая романы, или Элла в самолете, желающая смерти, или голуби, падающие на землю, повинуясь ружью Пола, — все это ушло, рассосалось, уступило место тому, что было важным по-настоящему. И вот я долго, бесконечно долго наблюдала, подмечая каждое ее движение, за тем, как миссис Бутби стоит на кухне отеля «Машопи», ее мощные ягодицы под давлением корсетов выпирают так, что кажется, что это — полка, на которую можно что-нибудь поставить, под мышками проступили темные неровные пятна пота, лицо пылает от расстройства, а она все режет, режет холодное мясо, отрезая куски от различных частей дичи и птицы, и слушает молодые жестокие голоса и еще более жестокий смех, доносящиеся из-за тонкой перегородки. Или же я слушала, как Вилли напевает прямо у меня над ухом, слушала этот его почти беззвучный и такой отчаянно одинокий напев; или видела в замедленной съемке, а эти кадры показаны мне были несколько раз подряд, так чтобы я уже никогда не смогла их забыть, его долгий полный боли взгляд, направленный на меня, флиртующую с Полом. Или же я видела, как мистер Бутби, дородный мужчина, стоящий за стойкой бара, смотрит на свою дочь и ее молодого человека. Я видела, как он с некоторой завистью, но безо всякой горечи, наблюдает эту картину молодости, прежде чем отвести глаза и протянуть руку за пустым стаканом, который он собирается наполнить вином. Видела я также и мистера Лэттимора, как он сидит и напивается в баре, отчаянно стараясь не смотреть на мистера Бутби, прислушиваясь к смеху своей рыжеволосой красавицы жены. Я видела, снова и снова, как он наклоняется, его движения размыты алкоголем, неуверенны, чтобы погладить рыжую собаку с волнистой шерстью, как он все гладит, бесконечно долго ее гладит. «Поняла?» — сказал киномеханик и показал мне следующую сцену. Я увидела, как ранним утром Пол Тэннер возвращается домой, собранный и подогретый чувством вины, видела, как он встречается взглядом со своей женой, стоящей перед ним в цветастом фартуке, у нее весьма смущенный, жалобный вид, а дети доедают завтрак перед тем, как уйти в школу. Потом он, слегка нахмурив брови, отворачивается и идет наверх, чтобы взять с полки свежую рубашку. «Поняла?» — сказал киномеханик. Потом пленку стали прокручивать очень быстро, кадры мелькали быстро, как во сне, там были лица, которые я видела где-нибудь лишь однажды и давно забыла, неспешное движение чьей-то руки, движение пары глаз, все говорило об одном и том же — фильм перерос мой личный опыт, опыт Эллы, он перерос мои тетради, превратился в некий сплав, отдельных сцен и лиц, людей, движений, взглядов больше не было, они слились в одно, фильм снова стал невероятно, бесконечно медленным, он стал набором эпизодов, без сюжета: вот тянется к земле рука крестьянина, чтоб бросить в нее семя, вот стоит гладкая скала, а воды у ее подножия ее медленно точат, вот в лунном свете на склоне холма стоит мужчина, он стоит там вечно, с ружьем наизготовку. Или — женщина лежит, вокруг ночь и тьма кромешная, но она не спит и говорит: «Нет, я не стану убивать себя, нет, нет, не стану».
Киномеханик теперь хранил молчание, я крикнула ему: «Все, хватит!» Он мне не ответил, поэтому я протянула руку и отключила аппарат сама. Находясь все еще во сне, я прочитала написанные моей рукой слова: «Это все про мужество, но про то мужество, которого я никогда не понимала. Это — маленькая мучительная разновидность мужества, которая лежит в основе всякой жизни, потому что в основе всякой жизни — жестокость и несправедливость. А я всю жизнь замечала лишь героическое, или прекрасное, или очень умное по той простой причине, что не хотела видеть эту жестокость и несправедливость, поэтому не замечала и этой маленькой способности — терпеть боль, а ведь она превыше многого».
Я посмотрела на эти написанные мной слова, они меня смутили; и тогда я отнесла их к Сладкой Мамочке. Я ей сказала:
— Мы снова вернулись к травинке, которая пробьется сквозь обломки ржавой стали, спустя тысячу лет после того, как разорвутся бомбы и расплавится земная твердь. Потому что сила воли этой маленькой травинки равна маленькой способности терпеть боль. Ведь все дело в этом? (Во сне я улыбалась сардонически, подозревая западню.)
— И? — она сказала.
— Но дело в том, что я не думаю, что я готова воздать так много почестей этой проклятой травинке, даже сейчас.
На что она улыбнулась. Она с прямой спиной сидела в своем кресле, решительная и несгибаемая, она была весьма не в духе из-за моей медлительности и потому, что я упорно отказываюсь видеть суть. Да, она выглядела как раздраженная домохозяйка, которая положила что-то не на место или которая не успевает вовремя все приготовить.
Потом я проснулась и обнаружила, что наступает вечер, в комнате — темно и холодно, а на душе у меня — уныло; я была белой женской грудью, утыканной жестокими мужскими стрелами. Все у меня мучительно болело, ныло от нехватки Савла, и мне хотелось оскорблять и обзывать его. Потом бы он сказал, конечно: «Ах, бедная моя Анна, мне так жаль», и мы бы занялись любовью.