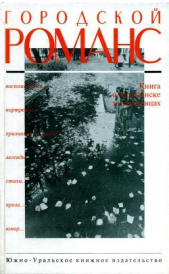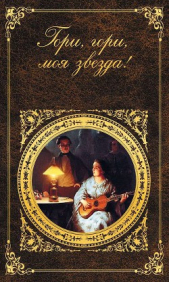Геополитический романс

Геополитический романс читать книгу онлайн
Романы «Геополитический романс» и «Одиночество вещей», вошедшие в настоящую книгу, исполнены поистине роковых страстей. В них, пожалуй, впервые в российской прозе столь ярко и художественно воплощены энергия и страсть, высвободившиеся в результате слома одной исторической эпохи и мучительного рождения новой. Главный герой «Одиночества вещей» — подросток, наделённый даром Провидения. Путешествуя по сегодняшней России, встречая самых разных людей, он оказывается в совершенно фантастических, детективных ситуациях, будь то попытка военного путча, расследование дела об убийстве или намерение построить царство Божие в отдельно взятой деревне. Всё вышесказанное можно отнести и к «Геополитическому романсу». Это романы-мистерии, романы-детективы, романы-фантастика. Предпринятое автором исследование «загадочной русской души» держит читателя в неослабевающем напряжении с первой до последней страницы. По мнению литературных критиков, «Геополитический романс» и «Одиночество вещей» — «настоящие русские триллеры, способные взволновать читателей гораздо сильнее дешёвых западных поделок».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уж как-нибудь! — Что-то изменилось в голосе Лены. Только что Аристархов слушал её, и ему мерещились унылые под пеленой дождя просторы, униженные, утративший веру путники, тянущиеся этими просторами неизвестно куда. А тут вдруг как будто прорезался резкий солнечный свет, ласточки или стрижи прочертили небо над ожившей, стряхнувшей сонную рабскую одурь землёй.
Птицы — ласточки, стрижи, да, пожалуй, и пеликаны, — как известно, давние любимцы Господа. Они — вне богатства и прочего материального. Где птицы — там дух. Аристархов был уверен, что пристрастное отношение Господа к птицам каким-то образом экстраполируется (капитан не боялся сложных иностранных терминов) и на него, грешного, летающего в железной апокалипсической птице — вертолёте.
Немец тем временем закончил осмотр и теперь приближался, помахивая сиреневой сотенной купюрой. Аристархову почему-то вспомнились конфеты со странными названием «Ну-ка отними!». Он подумал, что все его птичьи изыскания — бред. Куда там птицам против германских марок!
— Он был счастлив посетить вашу замечательную выставку, — сказал Аристархов. — Если бы он торговал картинами, он купил бы их все. Но он, увы, торгует всего лишь мясорубками.
— Скажи ему, что вход на выставку бесплатный, — надменно подняла брови Лена.
— Ты уверена? — удивился Аристархов.
Лена сказала сама по-английски.
— Что с ней? — не понял немец.
Аристархов пожал плечами.
— Я даю двести, я покупаю… вот эту? — немец ткнул пальцем в первую попавшуюся на глаза картину.
— Не продаётся! — свистяще прошептала Лена.
Немец вышел, играя желваками на щеках. Торговля мясорубками, видимо, приучила его к сдержанности и самобладанию.
— Боже, как грустна наша Россия! — простонала, схватившись за голову, Лена.
Аристархову нечего было возразить.
— Я свободна, — сладостно и грациозно потянулась Лена. — Как ты думаешь, двести германских марок — не слишком ли смехотворная цена за свободу?
9
Жизнь возвращалась в капитана Аристархова медленно, толчками. Прежде он существовал среди неких имитирующих жизнь каркасов посреди пустого, пронизываемого ветром пространства. Нынче же каркасы утонули в тёплой кирпичной кладке, поверх кладки побежали виноградники, хмель и прочие вьющиеся. Что-то само собой строилось-выстраивалось. Жизнь возвращалась ощущениями: цветом, вкусом, запахом. Она ворончато закручивалась, как та самая «Дорога листьев», и Аристархову было приятно лететь вместе с новой жизнью и листьями.
Куда?
Он не знал куда, как, по всей видимости, не знали этого и листья. То есть в конечном-то итоге знал куда: в землю. У капитана, летающего над землёй на вертолёте, шансы насчёт земли были ускоренные и повышенные. Зато Аристархов доподлинно знал — от чего именно хочет улететь. От прежней жизни, где остались нечернозёмная Россия, Волга, Афганистан, Германия, СССР, СА, его семья, то есть, в сущности, всё. От новой, какую он наблюдал на улицах и по телевизору. Эта жизнь, где странно уживались реклама недоступных вещей, латиноамериканские телесериалы, нищие с язвами, пьяноватые разухабистые оркестры в подземных переходах, теледикторы с пустыми лгущими глазами и прикованные к экранам, грезящие наяву люди, была бесконечно скучна Аристархову. Не то чтобы у него не было в ней шансов преуспеть — он ею брезговал. Преуспеть в этой воровской жизни было всё равно что овладеть сонной или тихопомешанной женщиной, которая один хрен не соображает, что с ней происходит. Аристархов понимал, что брезговать жизнью народа недостойно. Но не стремился разделить с народом его телевизионный сон. Капитану казалось, что он вместе с листьями летит навстречу новой — единственно его — жизни. Правда, смущало, что листья осенние, то есть красивые и сильные не жизнью, но угасанием, не прикреплением к стволу, до порывом несущего ветра.
И ещё смущало, что, засыпая или просыпаясь с Леной у себя ли в подмосковной монастырской келье, у неё ли в чердачной мансарде-мастерской, эдаким фонарём торчащей посреди оцинкованных плоских и уступчатых крыш, они никогда не говорили о будущем. Хотя, казалось бы, о чём ещё говорить молодым, любящим друг друга людям, как не о будущем?
Аристархову нравилось в смутные предрассветные мгновения стоять у окна мастерской, наблюдать, как матовые оцинкованные крыши поначалу темнеют, словно напоследок вбирая в себя всю оставшуюся тьму ночи, а затем начинают неудержимо светлеть и наконец яростно воспламеняются, расплавляются в неурочном и непостижимом белом пламени, пока из-за горизонта не выглянет край солнца и всё не придёт в рассветную норму.
Капитану во время общесоюзных морских учений приходилось летать над Тихим океаном. Он неоднократно заставал легендарный послезакатный «зелёный луч», когда сразу по исчезновении солнца мир — точнее, вода и воздух — излучал пронзительный изумрудный свет. Корабли же, береговые скалы, тянущиеся над океаном птицы становились аспидно-чёрными, какими-то заострёнными, как выпущенные стрелы.
Теперь Аристархов твёрдо знал, что в мире оцинкованных крыш существует предрассветный «белый луч». Зелёный луч, помнится, наводил его на мысли о смерти. Белый — о жизни, оплодотворении. Почти как по Уолту Уитмену: «Белый любви опьяняющий сок, потом получаются дети…» Впрочем, всё это были необязательные фантазии военнослужащего, подружившегося с художницей. Капитан не придавал им значения.
Как и тому, что в иные мгновения белого луча город как бы завёртывался в кулёк из оцинкованных крыш, отрывался от асфальта, улетал «дорогой листьев». В этом не было бы ничего особенного, если бы не тягостные «цинковые» воспоминания капитана. Образ завёрнутого (запаянного?) в цинк города сообщал новой жизни Аристархова некую относительность, удивительным образом ассоциирующуюся у него с оглушительной — как в мгновения зелёного и белого лучей паузой, неземной какой-то тишиной, молчанием проклятого мира.
Это молчание впервые поразило его в монастырской келье, когда, лёжа с Леной на узкой койке, ощущая своим плечом её тёплое плечо, капитан собрался рассказать ей про свою жизнь, но не сумел произнести ни единого слова, настолько цинковыми, несовместными с сухим благоухающим осенним воздухом кельи вдруг предстали собственные непроизнесенные слова.
Аристархов мог бы рассказать Лене, как разлетается в красные клочья человек, когда в него попадает крупнокалиберная разрывная пуля.
Как удачно выпущенная ракета вспучивает танк, после чего он лопается, точно воздушный шар, как баба ноги, разбрасывает гусеницы, проваливается башней.
Какое счастье видеть в осеннем парке жену и дочь.
Какое несчастье видеть собственную жену в объятиях старого синеногого немца.
Как странно ощущать соединённость собственной жизни с машиной, с вертолётом.
Как не менее странно ощущать, что вне вертолёта для тебя жизни нет.
Что вертолёт — тот самый узкий (белый, зелёный, предзакатный, послерассветный?) луч, внутри которого он, капитан Аристархов, может всё. Остальная же жизнь — цинк, тишина, молчание, в ней он не может ничего.
И Лена, прижимаясь к Аристархову тёплым плечом, помалкивала. Аристархов думал, что внутри своего луча она ещё более неуспешна и несчастна, нежели он внутри своего. По мере того как общество падало, росла его нужда в таких, как капитан Аристархов, то есть в умеющих воевать и убивать. И — росла ненужда в таких, как Лена, то есть в умеющих рисовать «Дороги листьев», сочинять романы, стихи, поэмы и симфонии.
Аристархов понимал, что несчастья иной раз соединяют людей крепче, чем любовь. Только вот уж очень горькой была эта близость — на несчастьях. Оттого-то, знать, так редко улыбались друг другу не только Лена и Аристархов, а и прочие, наблюдаемые ими на улицах и в других присутственных местах люди. Общество переживало период разъединения лучей. Не только новые не находили друг друга, но мучительно разъединялись давно слитые. Аристархов всматривался в выражения лиц, гулявших с детьми супругов — даже на их лицах не было счастья и радости.