Европа
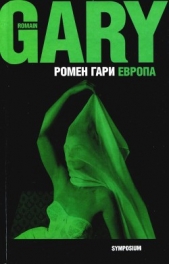
Европа читать книгу онлайн
«Европа» — один из поздних романов Гари, где автор продолжает — но в несколько неожиданном духе — разговор на свои излюбленные темы: высокая любовь и закат европейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так и слышался ее голос:
— Он никогда и не задумывался о том, во что могла превратиться наша жизнь, чтобы попытаться как-то помочь нам, да я и не согласилась бы на это…
Это была неправда. Дантес не смог сдержать негодования и, должно быть, даже воскликнул что-то раздраженно, потому что шофер подумал, что обращаются к нему, и обернулся. Его банк в Женеве регулярно выплачивал Мальвине ренту, об источнике которой она, по ее словам, ничего не знала и, надо признаться, никогда и не стремилась что-либо узнавать. Довольно уже Дантес изводил себя упреками, чтобы к этому грузу прибавилось еще обвинение в чудовищном безразличии, которое Мальвина не преминула выдвинуть против него, он в этом нисколько не сомневался. Она никогда не упускала возможности принизить его в собственных глазах. Он показал Эрике свои толстенные папки, копирки сотен писем, оставшихся без ответа, отчеты частных детективов. После аварии, сразу после выписки из больницы, Ma вернулась в Австрию, в замок Лебентау, и вновь взялась за прежнее занятие, что послужило одним из поводов к разрыву. Лебентау весил тогда уже сто двадцать килограммов: оккупация Австрии русскими войсками, установление советской власти в Венгрии и Богемии, что он называл «концом Европы», повергли его несколькими годами раньше в отчаяние, и он стал искать утешения в еде. Эрика почти не помнила этого человека, похожего на гигантский пузырь, которого она встретила уже гораздо позже: все свое время он проводил, играя на флейте, а его желтые глаза персидского кота вызывали в памяти имена Рильке и Гофмансталя. В конце войны, когда его Европа, средоточие разума и возвышенных чувств, опустилась, ниже некуда, и, так сказать, перестала существовать, он позволил Ma убедить его забыть благородное эхо, которым звук его имени некогда отдавался в безднах Истории, и подчиниться правилам настоящей эпохи. Отпрыску Габсбургов в изгнании незачем уже было хмурить брови, а одухотворенная Вена исчезла вместе с выдворением евреев. К тому же элиты почти уже не было. У тех, кто еще оставался, входила в моду проституция, так как, в конце концов, она касалась только тела и не затрагивала души: главное было спасено. Ma быстро сообразила, что некоторый стоицизм, а также весьма отстраненный, очень английский, взгляд на несчастья, постигшие тело, презрительное, аристократическое равнодушие в манере смотреть на то, что внизу, и пользоваться им превращали дома терпимости в место, где можно было как угодно прогибаться, поскольку это вам, в конечном счете, ничем не грозило. Истинное достоинство должно было научиться находить пристанище на высотах духа, где вам всегда были рады и никому не отказывали. К тому же когда вы пропитаны культурой, вы всегда выбираетесь из помойной ямы, как гусь из воды.
Вот так, непринужденно иронизируя с Эрикой, Дантес в то же время чувствовал, сколько себя самого и собственной досады вкладывает он в эту свою интерпретацию персонажа Лебентау и в цинизм аргументов, приписываемых им Мальвине фон Лейден. В этот самый момент ночные воды поднимались, чтобы в который раз смутить его сознание, то выбрасывая на поверхность воспоминания, лица, голоса, местности, мгновения и миры, скрытые в толще воды, вытаскивая из трясины психики обломки тысяч кораблекрушений, которые суть убегающие секунды и отмирающие впечатления, тут же подхватываемые и стремительно уносимые, то, напротив, слизывали эти разрозненные останки, накрывая их новой волной, еще более мутной и неясной, не давая им вынырнуть на поверхность и вернуть вам себя самого, без всякой жалости… В этот самый момент Дантес, сцепившийся в схватке с этими ночными бурями и водоворотами, смятенность которых столь странным образом контрастировала со спокойным светом луны — этого нежного сердца, зачаровывавшего белые мраморы виллы «Флавия» и медленно пробиравшегося по старым паркетам его спальни, еще в этот момент… Но неужели, в самом деле, неужели то были его мысли… В этот момент, представляя себя в лихорадке ночи, или же представляемый кем-то другим, Дантес не мог с уверенностью сказать, существовал ли реально дивный исторический замок, превратившийся в дом терпимости высокого класса, или здесь речь шла всего лишь о способе — одной из тысяч уловок, на которые он шел — искать каких-то оправданий в этой притче о некой Европе острых умов и прекрасных душ, ставшей борделем, где все продажно. Все это, разумеется, принималось лишь с той оговоркой, в той мере, в какой он мог считать себя самим собой, ибо важно было продемонстрировать свою осторожность, принимая во внимание сущность игры и, в особенности, этой партии, претенциозная цель которой могла заключаться только в том, чтобы уничтожить его. Он нисколько не был уверен, что лежит сейчас в этой комнате, по паркету которой скользит, пританцовывая, как канатоходец, лучик лунного света. Он с трудом узнавал себя в этих мыслях, развертывавшихся бесконечной спиралью, и, возможно, он просто забылся от усталости, что случалось с ним теперь все чаще и чаще, у него в кабинете во дворце Фарнезе. Арлекин, гипсовая фигурка с поднятой ногой и непременной издевательской улыбкой, показывал ему нос. Данте, которого он купил на Джудекке, как нельзя более кстати, создавал контраст воздушным трюкам паяца. На стенах — Гварди и Лонги: то была аморальная и восхитительно беспечная Венеция, где Пьомбы [29] представляли собой всего-навсего обыкновенную тюрьму с каменными стенами, откуда удалось бежать Казанове, которую и сравнивать нельзя с теми непробиваемыми застенками, где вы были одновременно и узником и собственным надзирателем. По правую руку от него — шахматы XVIII века, на зеленом с красным столе, инкрустированном перламутром, с гербами Светлейшей [30]. Расставленные фигуры воспроизводили одну удивительную по своей красоте партию, состоявшуюся на Лондонском турнире в апреле 1922 года, называемую еще «паутинками», она разыгрывалась между Рети и Зноско-Боровским, под знаком какого-то скрытого давления черной королевы, Дантес уже готов был увидеть ее надвигающуюся из угла гостиной угрожающую тень:

В библиотеке, в пурпурных переплетах — все, что XVIII век сказал сам и что с тех пор было сказано о нем… На столике слева — букет хризантем, источавших столь нравившиеся ему сумбурные запахи. Вот уже около века послы Франции проводили заседания в этом зале, носившем имя «фарнезских летописей»; Карл Квинт и Франциск I глядели на него с высоты этих стен, на которых Сальвьяти не побоялся соединить, нисколько не заботясь об уместности такого соседства, понтифика Павла III и его сестру Юлию Фарнезе, любовницу Александра Борджиа, представленную в облике Венеры. Бессонными ночами Дантесу не раз случалось бродить с доисторическим подсвечником в руках, переходя из зала в зал, из века в век, в окружении этих всемогущих вельмож, полагавших, что они делают Историю, но оставивших свой след лишь в произведениях живописи, скульптуры и архитектуры, которые они заказывали своим придворным мастерам. Зал, называемый «тронным», зал императоров, зал философов, «белый салон», служивший одно время спальней королевы Кристины Шведской, большая галерея с голыми стенами, галерея Карраччи, Вакх и Одиссей в настенных росписях, уже тронутых влиянием стиля барокко… Иногда посол поднимал свой канделябр, освещая фрески потолка, где Карраччи изобразил похищение Европы…
Дантес любил оставаться у себя в кабинете, где он надолго задерживался после ухода своих сотрудников, смакуя гаванскую сигару. Его жена — отношения у них были обоюдно вежливыми — вела свою собственную жизнь, наполненную изяществом, вернисажами и безупречностью. Его сын, окончив учебу, остался в Париже, активно участвуя в движении левых: средние буржуа, у которых всякая вещь всегда на своем месте. Сигара приятно тлела у него руке, полоски дыма поднимались тяжело, солидно, медлительностью своей напоминая скорее Голландию, чем Кубу. Как странно, однако, что такой ветреный народ мог дать жизнь чему-то столь умиротворяющему, спокойно-тяжеловесному, в полной гармонии с фламандской живописью. Но замок-бордель существовал на самом деле, столь же реальный, как и эта сигара, которую он держал сейчас в руке, и газеты, после самоубийства Лебентау, даже напечатали фото знаменитой «хозяйки замка, Мальвины фон Лейден, одной из последних представительниц выдающихся авантюристов, таких как Калиостро и ля Спирелли». Эрика призналась ему, что ей так и не удалось узнать, правда ли Ma стала заниматься сводничеством, отступив перед демократией, так же как сливки общества примкнули к фашизму, как рассказал об этом Лебентау в доверительной беседе с графом Кайзерлингом, сделав передышку между двумя этюдами на флейте, заметив при этом: «Мальвина фон Лейден, знаете ли, не лишена обостренного чувства природы вещей, и, не имея возможности исправить ситуацию, она никогда не чувствует себя скомпрометированной, когда приходится отступать перед тем, что она называет „миром других“…»


























