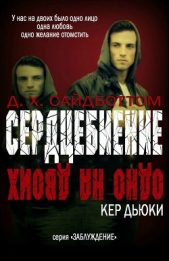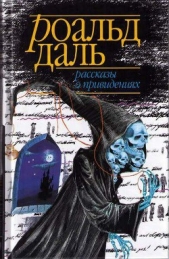Заговор
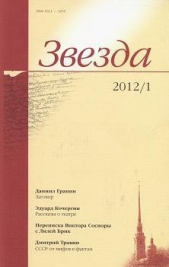
Заговор читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«А помнишь значки? Пол-чемодана значков тащил. Все больше Ленин. На красной эмали наш красавец. Греки брали нарасхват. Итальянцам пришлось пришпиливать. Вкалывал в пиджаки. Благодарили. Особенно Ленин маленький шел. Беби. Еще не вождь, просто дитя без соратников. Подступил я к одному мужику в Неаполе, он распахивает плащ, я обомлел, у него весь пиджак до низу утыкан значками. Ничего подобного я не видел. Зрелище тяжелое. А что еще дарить? Одна наша туристка привезла матрешку и пожалела отдать весь комплект, раздавала поштучно. Итальянцы не поняли, в чем смысл этих деревяшек».
В свое время Ницше заявил, что Бог мертв. Это давно обсуждается. Но все-таки… а если он жив? — вот ведь какая для нас задача. Мертвый Бог проблем не оставляет, а живой Бог — это же требование, это значит, если живой Бог, значит живы ангелы-хранители, а если они живы, они могут покинуть и бросить меня в самый тяжелый момент моей жизни. Бог — это вертикаль нашей низменной земной жизни.
Вчера я был на диспуте с французами-философами, ведущие философы Франции. Тема была избрана: «Религия и политика». Когда меня попросили выступить, я сказал, что у нас, в нынешней России, нет ни политики, ни религии. Вот посмотрите, идет церковный праздник. В храме стоят у алтаря (подчеркиваю — у алтаря) со свечками губернатор с женой или высшая власть, министр, премьер, не со всеми стоят, а отдельно, рядом со священником, да еще где-то рядом там сзади охранники стоят. Что это — политика? Нет, это не политика, это дешевка. Что это — религия? Нет, это не религия, это кощунство. Они же ни в какого Бога не верили и не верят, для них вертикаль ведет не к Богу, вертикаль — это они сами и те, кто над ними, а над ними — это другой ярус власти. Поднялся всего на две ступеньки, и уже спустя год он превращается в другого человека. А почему он считает, что он выделен, что он отмечен, что он отличается от всех остальных? И у него мысли не появляется, что завтра вдруг ему придется спуститься вниз и опять ступить на землю.
Почему все русские писатели были верующими — и Пушкин, и Толстой, и Чехов, и художники, и русские и европейские, со времен Возрождения, и архитекторы? Вера во Всевышнего им помогала, возвышала. А политикам она мешала. Потому, как мне кажется, вера не конъюнктурна, звездное небо над нами, политика же под нами.
Джон Стейнбек у нас допытывался: если вы ликвидировали Бога, то кому же человек будет сообщать о своих сомнениях, пакостях? Человеку надо обязательно иметь духовника, если нет физического лица, то он будет обращаться к небесам.
«Какой правитель всех лучше?» — рассуждали греческие мудрецы. Ответы были самые разные. Наблюдая судьбы наших начальников, допустим, мэров городов или губернаторов, я бы определил так: лучшие это те, кто остаются после отставки жить в своем городе, вот, может быть, показатель. Правда, таких примеров я бы привести не мог, все они после отставки торопятся уехать, кто в областной центр, кто в Питер, кто в Москву, а то и за границу.
Сознание нам расконвоировали, охрана ушла, предрассудки отброшены, мифы исчезли — иди куда хочешь. А куда? Вот какой вопрос появился, стоим в чистом поле без понятия, и никаких знаков.
Шовинизм — самое дешевое массовое чувство, шовинист безлик, он низводит себя к толпе неразличимых единиц. Я русский, я татарин, я немец, ничем другим я не обладаю, собственных достоинств у меня нет. Любой подонок вот так же бьет себя в грудь: нищие духом и умом.
Абсурдно устроена наша жизнь. Мы содержим чиновников, милицию, суды, и они относятся к нам нагло, по-хамски, чинят произвол, мы их ненавидим, они нас презирают, обворовывают, лгут на каждом шагу. Ну не нелепость разве? И почему-то это считается законным.
Для ленинградцев победа была не в том, чтобы разгромить немцев, а выстоять. Выстоять означало не расчеловечиться, не капитулировать, одолеть духом.
Судьба подарила мне долголетие. Как я использовал это? В конце жизни, подводя итоги, — недоволен. Наверное, довлеет арифметика — мало написал, главного не написал и т. п. Но ведь кроме стола была еще жизнь, с дружбой, любовями, путешествиями. Кончено, можно было написать и больше и, может, лучше. Но за счет солнца, моря, смеха…
Слово «любовь» не хочет поддаваться множественному числу.
В 1895 году Л. Н. Толстой пишет в дневнике:
«Я знаю, что мне велит совесть, а вы, люди, занятые государством, устраивайте, как вы хотите, государство так, чтобы оно было соответственно требованиям совести людей нашего времени. А между тем люди бросают эту непоколебимую точку опоры и становятся на точку зрения исправления, улучшения государственных форм и этим теряют свою точку опоры…»
Я считал, что интеллигенция нужна как оппозиция, как некий орган критического отношения к официальной политике, нужна обществу как иная точка зрения, прежде всего нравственная, как поправка, как нужна компасу девиация. Но тем самым я, интеллигент, вовлекаюсь в государственные дела. Вместо того, чтобы заниматься своей духовной работой. Я в оппозиции становлюсь напарником, как второй полюс, в какой-то мере принадлежностью государства, причастным к его деятельности. А я должен прежде всего сам жить по совести, она моя оппозиция, что достаточно трудная обязанность. Думать о себе, и не ради того, чтобы служить примером, а только ради себя, своей собственной души.
Это не значит, что вся моя жизнь будет замыкаться на себя. Смысл своей жизни, который мы ищем, не может находиться внутри ее, он только может быть для людей — в милосердии, в помощи, в любви, в сострадании. Это единственное, чем можно оправдать свое существование. И тут нельзя играть в прятки — мол, моя служба государственная и есть то самое служение людям. Ведь в большинстве своем чиновное служение в аппаратах казенных или в фирме лишено прямого соприкосновения с людьми. Нет и чувства к ним, и мысли о них, а есть схема банковских операций.
Ранние дневники Ольги Берггольц. Оказывается, у нее был роман с Геннадием Гором. Невероятно! Тот послевоенный Гор, которого я знал, — толстый, неопрятный, робкий, автор нескольких скучных повестей и хороших фантастических рассказов — был не способен на романы, а с Ольгой, кипучей, опасной на язык, тем более. Ее талант, ее взгляды, все не подходило Гору. И вот поди ж ты. Как меняла человека наша советская жизнь.
Наконец я добрался до этой книги Константина Симонова «Глазами моего поколения». Я давно слыхал о ней от Лазаря Лазарева, который был составителем и редактором этой книги. И она мне как раз попалась сейчас под руки вовремя. В сущности, эта книга — о Сталине. Я последнее время сравнительно много книг о Сталине читал и смотрел, в том числе работы Волкогонова, замечательную книгу Илизарова, московского историка, иностранные книги. Среди них немало интересных и удачных работ. Они сделаны на документах, снабжены анализом, психологическим, аналитическим и т. д. Там много догадок и, пожалуй, можно сказать, даже и немало сделано для создания образа Сталина. Но работа Симонова отличается от всех других подобных книг, а их накопилось уже сотни, изданных на Западе и у нас.
Симонов начиная с 1946 по 1953 год более-менее регулярно встречался со Сталиным как член Комитета по Сталинским премиям, это были ежегодные встречи для обсуждения кандидатов на Сталинские премии, а затем как кандидат в члены ЦК партии, и на встречах, которые Сталин время от времени устраивал с писателями. Но Симонов в отличие от всех других участников этих встреч обладал драгоценным чувством историзма, и, возвращаясь от Сталина, каждый раз аккуратно записывал все, что помнил, стараясь в точности передать те или иные слова, жесты, интонации, поведение Сталина, как он ходил вокруг стола, как он к кому обращался, на кого как смотрел и тому подобные детали. Дело в том, что в присутствии Сталина на этих встречах записывать ничего не полагалось, поэтому приходилось все это делать впоследствии и не так, как мы обычно иногда это делаем, спустя несколько дней или при удобном случае. У Симонова была чрезвычайная обязательность, он понимал законы человеческой памяти. Есть короткая память, непосредственная, сохраняющая свои впечатления день-два, часы во всяком случае, и более длинная, долгая память, которая помнит уже не столько детали, сколько впечатление, какие-то подробности исчезают, какие-то туманятся. Симонов понимал, что это скоропортящийся материал, и старался его сохранить как можно добросовестнее. Мало того что он эти записи приводит в своих воспоминаниях, но своеобразие заключается и в том, что он их комментирует уже в 1979 году, когда он пишет эту книгу, то есть спустя двадцать лет после этих записей. Комментирует, уже зная многое из того, что нам открылось и после XX съезда, и в последующие годы. Любопытно, что, да, какие-то вещи он переоценивает, какие-то вещи он опровергает. Опровергает, ссылаясь на все то, что мы узнали. Но вот что замечательно: основной массив его непосредственных впечатлений, полученных его глазом, его писательским чутьем. Они и составляет ту драгоценную достоверность и подлинность, которая позволяет ему откорректировать, дополнить образ этого человека. Ему не удается свести воедино те или иные противоречивые черты в одно логически целое, объяснимое поведение, но он к этому не стремится, он знает, что человек — это тайна, любой человек, а тем более человек такой гениальной хитрости, такой гроссмейстер политической интриги и, можно сказать, такой лицедей, как Сталин.