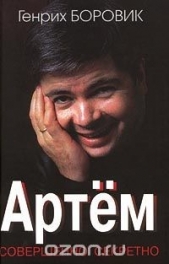а, так вот и текём тут себе, да (СИ)

а, так вот и текём тут себе, да (СИ) читать книгу онлайн
…исповедь, обличение, поэма о самой прекрасной эпохе, в которой он, герой романа, прожил с младенческих лет до становления мужиком в расцвете сил и, в письме к своей незнакомой дочери, повествует о ней правду, одну только правду и ничего кроме горькой, прямой и пронзительной правды…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мама обжарила семечки на сковородке и они очень вкусно запахли.
Мы грызли их, складывали шелуху на блюдце, а вкусные ядрышки с острыми носиками жевали и проглатывали.
Потом мама сказала, что если сразу не есть, а налущить по полстакана, да посыпать сахарным песком – вот будет вкуснотища!
Мы, дети, получили по стакану семечек каждый, одно блюдце на всех сразу и большущий кульёк, который мама ловко свернула из газеты и наполнила посылочными семечками.
Зайдя в детскую, мы разлеглись на остатках ковровой дорожки с подпалинами от давнишнего пожара.
Конечно же, лущёными семечками первым наполнился стакан Наташки, хотя она больше болтала, чем грызла. Но когда и Санька стал обгонять меня, это задело моё самолюбие; хотя я оправдывался тем, что отвлёкся рассматриванием карикатуры на газетном кульке, где пузатый колониалист вылетал с континента Африка, а сзади на его шортах чернел отпечаток пинка башмаком.
Я стал грызть побыстрее, иногда мне хотелось съесть какую-то из семечек, но нельзя же совсем отстать от брата с сестрой.
Потом мама принесла стакан с сахарным песком и чайной ложечкой посыпала нагрызенные нами семечки, но мне уже их расхотелось, даже и под сахарной присыпкой, и я охладел к ним на всю дальнейшую жизнь…
( … а между тем, лузганье семечек это не просто эффективное времяпровождение в сочетании с ублажением вкусовых колбочек языка и нёба, но ещё и целое искусство.
Начиная от разухабисто славянских фасонов типа «свинячьего», когда чёрные, отчасти даже пережёванные лушпайки не сплёвываются в окружающую действительность, а выталкиваются языком из уголка губ и они неспешной, лавообразной массой сползают до подбородка, чтобы шмякаться вниз прослюненными шматками; либо же «филигранного», при котором семечка закидывается в рот с расстояния не менее двадцати пяти сантиметров, и так далее – до целомудренной закавказской манеры, когда грызóмые семечки закладываются во всё тот же, таки, рот по одной, из зажима между концом большого и суставом указательного пальцев, причём сгиб указательного совершенно прикрывает губы в момент приёма семечки, и лузга не выплёвывается, а возвращается обратно меж тех же пальцев для рассеивания куда попало, или складывания во что-уж-там-нибудь.
При наблюдении последнего из перечисленных способов, складывается впечатление будто семечкоед вкушает собственный кукиш. Ну-кось, выкусим!..
М-да, семечки – это вам не тупой поп-корм.
Однако, хватит уже про них, вернусь-ка к зелёной дорожке …)
Именно на этой зелёной дорожке мой брат нанёс сокрушительный удар по моему авторитету старшего, когда я, придя из школы после урока физкультуры, опрометчиво заявил, что сделать сто приседаний кряду – выше человеческих сил.
Сашка молча посопел и сказал – он сделает.
Считали мы с Наташей.
После тридцатого приседания я заорал, что так неправильно, что он подымается не до конца, но он не слушал и продолжал, и Наташа продолжала считать.
Я перестал вопить, а под конец даже присоединился к сестре в хоровом счёте, хотя и видел, что после восьмидесяти он уже не подымается выше согнутых в приседе колен.
Мне жалко было брата, эти неполноценные приседы давались ему с неимоверным трудом.
Его пошатывало, в глазах стояли слёзы, но счёт был доведён до ста, после чего он насилу доковылял до дивана, а потом неделю жаловался на боль в коленях.
Авторитет мой рухнул, как колониализм в Африке. Хорошо хоть пряников я не обещал…
Откуда взялся проектор?
Скорее всего это был подарок родителей. А у них в комнате появилась радиола – комбинация из радиоприёмника и проигрывателя для грампластинок; как теперь говорят: два в одном.
Крышка и боковые стенки у неё отблескивали коричневым лаком. Твёрдый картон обращённой к стене задней стенки был просвéрлен рядами круглых отверстий-иллюминаторов, в которых белели алюминиевые домики-панели и теплились тихие огоньки в чёрно-перламутровых башенках радиоламп разного роста, а через одну из дырочек выходил коричневый провод с вилкой для электророзетки.
Переднюю стенку обтягивала специальная звукопропускающая материя, через которую угадывались овалы динамиков, и круглый зелёный глазок лампочки, зажигающейся при включении.
Внизу передней стенки размещалась невысокая стеклянная плата почти во всю длину, если не считать три катушечные ручки по краям: справа – включение и громкость (два в одном) и переключатель диапазона принимаемых радиоволн, слева – плавная подстройка на волну.
Стекло было чёрное, с четырьмя прозрачными полосками от края и до края, и над каждой тонкие чёрточки с названиями городов: Москва, Бухарест, Варшава; а если покрутить ручку настройки приёма волны, то через прозрачные полоски, по ту сторону стекла, в недрах радиолы видно продвижение красного вертикального бегунка.
Радио было не очень интересным – шипело, трещало при перемещении бегунка, иногда из него всплывала речь диктора на незнакомо-бухарестском языке, или на русском, но такое же самое, что и в настенном радио.
Зато поднятие лакированной крышки открывало широкий круг с бархатной красной спинкой, куда кладутся грампластинки, надеваясь на невысокий никелированный стерженёк в центре круга, а сбоку от него – чуть кривоватая лапка адаптера из белой пластмассы на своей подставке.
Адаптер надо приподнять с подставки и опустить на краешек вращающейся грампластинки, чтобы слушать песню про Чико-Чико из Коста-Рики, или О Маэ Кэро, или про солдата в поле вдоль берега крутого.
В тумбочке под радиолой было много бумажных конвертов с чёрными пластинками Апрелевского завода грамзаписи, о чём напечатано на круглых наклейках в центре, пониже названия песни и имени исполнителя, и что скорость вращения 78 об/мин.
Рядом с адаптером находился рычажок переключения скоростей: 33, 45 и 78.
Пластинки на 33 оборота были значительно меньше 78-оборотных, но на них – на таких маленьких – размещалось аж по две песни с одной стороны.
Наташа показала нам, что при запуске 33-оборотной пластинки на скорость в 45 или 78 оборотов даже хор Советской Армии имени Александрова начинает петь кукольно-лилипуточными голосами.
Папа не слишком-то увлекался чтением, если что и читал, то лишь журнал РАДИО со схемами-чертежами из диодов-конденсаторов-сопротивлений, который ежемесячно приносили в почтовый ящик на двери нашей квартиры.
А поскольку папа был партийный человек, то туда же ещё клали газету ПРАВДА и журнал БЛОКНОТ АГИТАТОРА без единой картинки и с беспросветно плотной печатью – по одному-два нескончаемых абзаца на странице, не больше.
Ещё из-за своей партийности папа иногда по вечерам ходил на занятия в школу партийной учёбы, после работы, чтобы записывать уроки в толстую тетрадь с дерматиновой коричневой обложкой, потому что в конце учебного года его ждал трудный экзамен.
С одного из вечерних уроков папа принёс домой пару партийных учебников, которые там распространяли среди партшкольников. Но даже в эти учебники он никогда не заглядывал.
И оказалось, что зря.
Потому что ещё через два года в одном из них он обнаружил свою «заначку» – часть получки припрятанной от жены для расходов по собственному усмотрению.
Он горько сожалел и громко сетовал по поводу своей находки, потому что заначка оказалась старыми деньгами, на которые после реформы ничего не купишь…
У Объекта, на котором мы жили, было ещё одно имя – Зона. Оно осталось с тех времён, когда Объект строили зэки, а ведь они живут и трудятся «на зоне».
После пары лет занятий в партийной школе папу и других её учеников возили «за Зону» – в районный центр на экзамены.