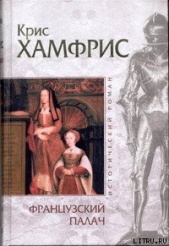Боснийский палач

Боснийский палач читать книгу онлайн
Действие этой своеобразной боснийской хроники конца XIX и начала XX века начинается в то время, когда государственный палач Алоиз Зайфрид с австро-венгерской силой прибывает в Сараево, чтобы изгнать оттуда оттоманскую дохлятину с чалмой на голове, и завершается тогда, когда той же силе, превратившейся из змея в горыныча, по окончании Первой мировой отрубают головы и выгоняют назад, в сломленную Вену. Разветвленная, динамичная фабула обращает внимание читателей и на события, предшествовавшие австрийской оккупации, и своими, казалось бы, случайными импульсами напоминает о событиях, имевших место после Второй мировой войны. Кроме главного героя — государственного палача, нарисованного с разных точек зрения — роман, на первый взгляд как бы случайно, походя, рассказывает о столкновении Востока и Запада на штормящем Балканском полуострове. Автор, используя вовсе не сухие документальные приемы, рисует яркие портреты исторических деятелей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Император тоже знает, думает Зайфрид, что Отто после смерти будет с Ним там, наверху, у самых коленей Его сидеть, как эти горцы в своих гуслярских песнях сажают своего древнего царя Лазаря. А на деле-то Лазаря там нет, да и не будет никогда.
21
Не знаю, действительно ли отец был глубоко верующим. Несколько раз мы вместе ходили в церковь, таков был обычай, особенно в Рождество и на Пасху. Наверное, не ходить было нельзя, но не знаю, обязательно ли было присутствие там всей семьи. Когда он решил взять нас с собой, мы отправились словно на похороны. Оба они молчали, мама вела меня за руку. Но для того, что я сейчас намереваюсь написать, не имеет значения вопрос о степени его религиозности, а отношения, существовавшие между совершенно разными людьми, уроженцами Австрии. Их как будто стравливали друг с другом, причем в этом участвовали и те, от которых никто не ожидал ничего подобного. Так было и в нашем случае. Пожалуй, мне было лет десять, не больше. Я немного умел читать, еще меньше — писать. Мама научила меня тому, что знала сама. После всех ее попыток призвать на помощь чудо разговоры о школе обрывались, едва начавшись, и отец решил поступить по-своему.
Однажды утром, студеной зимой, он отвел меня в иезуитский питомник, назывался он «Конгрегация девы Марии», которой заправлял патер Пунтигам. Там были еще с десяток мальчиков, один похожий на меня, остальные абсолютно нормальные. Они рассматривали меня, я — их, потом я сел за парту в самом углу небольшой комнаты. Несмотря на то, что в ней было ужасно холодно, мне пришлось снять зимнее пальто и шапку. Я дрожал, зубы мои стучали, я страшно заикался, отвечая на простые вопросы, заданные патером Пунтигамом. Он хотел услышать, как меня зовут, сколько мне лет и молюсь ли я перед сном. Слышал ли я про Иисуса и его страдания? Об этом я ничего не знал, и потому молчал, что ему не понравилось. А может, мне это только показалось, потому что патер Пунтигам вечно был хмур и серьезен.
Так началась моя учеба, если это вообще можно так назвать. Впрочем, можно, хоть такая, но все-таки учеба.
Патер Пунтигам говорил размеренно, слово за словом, будто читал. Все время какие-то указания, это вы можете, это не смеете. Я плохо запоминал его слова, однако он их повторял, и в итоге мы их запомнили. С нами он говорил на местном языке, в названии которого я до сих пор не могу разобраться, со взрослыми — по-немецки.
— Все здесь от Бога, мы здесь для того, чтобы служить ему. Важнее всего в мире то, что Богу предназначено, вроде наших молитв. Поэтому всегда оборачивайтесь в сторону Рима — там папа печется о ваших душах.
Он показал нам, в каком направлении находится Рим, хотя мы не понимали, ни что такое Рим, ни кто такой папа, в сторону которых мы должны поворачиваться. И так каждый день, император и папа, Иисус, молитва, учеба, отречение. Что такое отречение, мы тоже не знали, но постоянно должны были повторять это слово.
Отрекаюсь от греха — отрекаюсь от греха. Отрекаюсь от блудодейства — отрекаюсь от блудодейства. Мы войско Иисусово — мы войско Иисусово. Иисус наш вождь — Иисус наш вождь.
— Как в школе? — спросил меня отец.
— Не нравится мне, — искренне ответил я.
— Почему это?
— Разве нет у нас других учителей?
Удивленный моим ответом и вопросом, отец долго смотрел мне в глаза. Я не отводил взгляда, я чувствовал, что этот взгляд — наша первая настоящая связь. Мы смотрели друг на друга как отец и сын, никак иначе. Ни злости, ничего другого.
— Каких других учителей? — опять спросил он.
— Обычных, как в других школах.
— А чем этот плох?
— Он хороший, но мне это не нравится.
— А что тебе нравится? — спросил он меня и ухватил за руку. Мы сидели на полу, он оперся на локоть и стал ростом чуть выше меня.
— Рисовать. Ничего больше.
Отец молча отпустил мою руку и уставился в свои ладони. Он смотрел на них так, словно видел что-то, словно хотел что-то стряхнуть с тыльной стороны, но передумал, повернул их и вновь стал рассматривать. Он часто делал так. Чтобы не мешать ему, я вышел из комнаты, прихватив свои краски. С ними я был счастлив. Немного воды, кисть, бумага и покой в доме. Это мне всегда нравилось. Мне не надо было выходить на природу, там кто-то мог приклеиться ко мне, встать за спиной и смотреть, что я там рисую. Какое ему дело до того, чем я занят?!
Краски мне подарил доктор Кречмар, по крайней мере, так сказал отец, когда принес их в дом. Доктор Кречмар несколько раз осматривал меня, когда я болел, но лично он краски мне не передавал. Позднее мне казалось, что отец просто так это сказал, а на самом деле краски он купил сам. Или, может, кто другой, неизвестный мне, потому как он дал их мне по возвращении из Загреба.
Как-то раз, а может, и два, сейчас точно не помню, я сидел в своей комнатенке один, когда отец с матерью начали скандалить. Не знаю, ругались ли они после венчания, наверное, да, почему бы и нет, если у них и венчание-то случилось после скандала. Отец терпеть не мог ругани, он вообще не любил разговаривать с матерью. Да и она не была разговорчивой, вечно сидела за своим «зингером» и шила. Попытаюсь описать тот разговор, ту ссору, но в точности передачи не уверен. Собственно, я даже не знаю, из-за чего она началась, я не видел, кто из них чем был занят, почему это они ни с того ни с сего начали ругаться.
— Что ты насчет него думаешь? — спрашивала она.
— Ничего, что это вдруг я должен думать? — отвечал он вопросом на вопрос, так тихо, что я едва расслышал. Я даже не уверен, что он именно так сказал. Вот это: «Ничего».
— Как это ничего? — вдруг закричала мать своим писклявым голосом. Сейчас я понимаю, что этому крику что-то должно было предшествовать, но не знаю, что именно, еще раз повторяю: не знаю.
— А так, чего тут планировать? Пусть себе сидит дома.
— Господи, помоги, Господи, помоги, — запричитала она. — И оно мне надо было, все это!
Отец обычно никого не утешал. Не умел этого делать. Он молчал, я не слышал ни слова.
— Что молчишь? — опять заверещала она.
— Потому что сказать нечего.
— Как это нечего? Сейчас — нечего, а тогда было что? — она возвысила голос.
— Что — тогда? Когда это — тогда?
— Когда ты меня обманул, мужик! И зачем мне все это было нужно, о Господи!
— Никто тебя не обманывал.
— Обманул, молчи! Обманул, а то что же? Я ведь не знала, чем ты занимаешься, душегуб, — голосила она.
— А что, так ли это для нас тогда важно было, чем я занимаюсь?
— Да я бы ни за что не согласилась! Но ты меня обманул. Ты должен был знать, что у тебя не может быть нормальных детей. Должен был знать! — ее вопли заполнили весь наш маленький домик.
— Что ты несешь? Ты что, ненормальная?
— Это ты сейчас говоришь, что я ненормальная. Я абсолютно нормальная, и всегда была нормальной. Это ты ненормальный, — зачастила она.
— Прекрати! — наконец и он повысил голос.
— Это Бог меня наказал. Да, наказал меня. Всякий, кто с тобой сойдется, будет наказан! Ты проклят!
— Успокойся, говорю тебе. Что ты колотишься, рехнулась, что ли? — прикрикнул он на нее. А ведь не кричал прежде, никогда ни на кого не кричал. Но и спуску никому не давал, всегда своего держался. Кто в себе уверен, тот не кричит, говаривал он частенько.
— Так ты хочешь меня обвинить? Меня, которая тебя приняла с чистым сердцем! Господи, зачем ты меня оставил жить, когда я умереть хотела!
— Я святой, женщина. Не проклятый, но святой. Ты должна это усвоить.
— О Господи, что это? Что это?
Я хорошо запомнил те последние отцовские слова. Не понял тогда их, но запомнил. Больше он никогда не повторял их. Я и сегодня не знаю, что отец хотел этим сказать. Или просто хотел оборониться от ее нападок. Я вновь услышал ее швейную машинку, ее успокаивающее стрекотание. Но не цитру. Он никогда не играл, когда она шила. Но когда она купала меня, то он, если был дома, обязательно играл. И тогда мы вдвоем безмолвно прислушивались к музыке, опасаясь, что он вдруг перестанет играть.