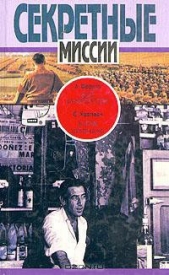Музей шпионажа: фактоид
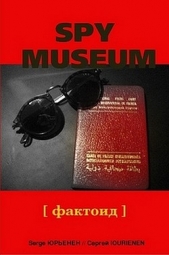
Музей шпионажа: фактоид читать книгу онлайн
ФАКтоид — это еще и просто «мелкий факт». Истине соответствующий, но несущий малозначительную частицу информации. Как например: самая распространенная в мире фобия — это ophidiophobia, страх змей. Или: автор предлагаемого вашему вниманию Фактоида четверть века работал в международном эфире. Или: на протяжении многих лет в подчинении автора (моем, господа) находился тайный советский агент, считавшийся одним из самых ценных приобретений на радио «Свобода»…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перед путешествием по коридорам, пиджак он обычно оставлял на спинке стула, и, как обычно, рубашка на нем была неглаженная, но при галстуке. При черном. Дешевый, слегка вздувшийся от внутреннего воздуха, этот галстук на резинке Тодт, видимо, держал у себя в кабинете.
И без повода не надевал.
Я стоял, поднявшись и даже выйдя из-за стола навстречу скорбной вести. Возложив для опоры руку на монитор; у меня был вертикальный, на котором помещалась целая страница с текстом программы, и сегодня в эфир пойдут материалы, подготовленные ее руками с заклеенными порезами от бритвы, вернее, от специального орудия для резки, похожей на половинку опасного лезвия, вправленного в металлическую держалку с выбитым Made in USA.
— Но как это случилось?
— В больнице.
Последний раз мы виделись в ее любимом ориентальном ресторане, куда Летиция пригласила меня с женой и дочерью. Была не только здорова, но в приподнятом настроении перед поездкой в Австрию к старой подруге. — Но каким же образом?
Он поднял седые брови, давая понять, что столь же скандализован, как сейчас буду и я:
— Похоже, что самоубийство.
— Но… как можно покончить с собой в мюнхенской больнице? Выбросилась из окна?
Он отрицательно покачал седым ежиком. — Таблетки… Расследование покажет, откуда были в таком количестве. На данный момент ясно только одно… — Тодт переместил тяжесть на левую ногу и сунул руку в карман брюк. — Наследником она выбрала вас.
— Меня?
— Видимо, родственников нет.
— Сестра в Америке, — сказал я с напором, почти обиженный за Летицию, которая обклеила все стены фотографиями в знак того, что помнит свое родство, но все равно не сумела донести сей факт верхам, неравнодушие которых она, бедная, переоценивала. Мы все тут только в инструментальной роли.
— Ах, вот как. Сестра?
— Родная!
— И у вас есть адрес, по которому с ней можно связаться?
— Нет, но, наверное, можно найти.
Брелок зацепился внутри у него в кармане, и Тодт его высвободил, блеснула золотая буква «А» в венке:
— Во всяком случае, позвольте мне официально исполнить последнюю волю госпожи Дедерефф…
Он выждал на случай, вдруг я захочу взять ключ у него из руки, а потом положил на край моего офисного стола, на зафиксированную, а в принципе подвижную рейку со щеточкой по всей длине, в которую пропущены были провода моего служебного «макинтоша».
Ключ этот я знал наощупь. Летиция, можно сказать, мне его навязла, чтобы не вставать лишний раз к двери на своих дюралюминиевых опорах.
«Анти-Лолита»?
Она заявила, что, если и надумает, то писать будет по-французски. Конечно. Работает только материнский язык. Много раз тогда пришлось мне подчеркнуть, что речь не об изящной словесности. Что, конечно, мы пошлем в какое-нибудь большое парижское издательство, где есть серия Temoignage vecu, Пережитое свидетельство. Но на данной стадии лучше об этом не думать. Ни о чем не думать, а писать, как пишется.
Рядом с ней на табуретке в «Арабелле» вместо осточертевшего вязанья появились тетради — старые, пятидесятых годов, такие твердо-бордовые, с тиснеными углами большого, французского формата, что меня невольно охватила ностальгия, хотя сам я в Париж попал только в конце 70-х, когда эти carnets уже вышли из моды и попадались только на блошиных рынках.
— Mon journal intime…
Ее французские дневники лежали на виду в тот день, когда после визита немца в черном галстуке, я закончил передачу и, спеша, пока светло, отправился в «Арабеллу».
Все было, как при ней. В порядке. Те же низкие потолки, то же — не чувство, но предощущение удушья. Приоткрыв дверь гостиной, со стекла которой я сорвал лист бумаги, адресованный Летицией То whom it may concern, я стоял на пороге. Отставив руку так, чтобы скотч, отклеенный от стекла, был подальше от кожи. Она здесь была, Летиция. А теперь ее нет. Нет вообще, хотя неделю назад мы ехали в ее любимый ресторан, и она, нас пригласившая, сидела рядом с шофером впереди. Остался только фон, который целокупно и порознь смотрел на меня с укором.
Я сделал шаг, добрался до rattan. Пальмовая плетенка издала подо мной привычное шелестящее потрескивание.
Лист бумаги я положил на стекло стола. Рукой Летиции было написано (по-английски), что если с ней что-нибудь случится, просьба связаться с наследником и исполнителем ее воли… ту heir & will’s executor… Мое имя и фамилия. Оба моих телефона, рабочий и домашний.
Нет! Выбери кого-нибудь другого!
Я испытал протест, но кроткий, сознающий свое бессилие. Какие претензии мог я огласить перед тем, куда ушла Летиция?
Все тот же запах. Французские духи. Осевший, где только можно, никотин. И шерсть, проклятая шерсть. Запах бесцельности. Отсутствия смысла. Отчаяния. Внезапно в моей голове, которую до этого наполнял какой-то легкий, дальний и немного занудный звон, звонкий девчоночий голос произнес отчетливо и наступательно: «Я ее в шерсть!»
Что за глумление? Откуда? Напрягшись, я вспомнил. То был фрагмент считалки, детской порнографии, доведенный некогда до моего мальчишеского сведения, и рифмовался он с числительным Шесть: 6-е шерсть! Про другие цифры ничего непристойного не вспоминалось, но шерсть, раскатанная здесь повсюду, легко перекрывала даже Число Зверя, покровом которого, возможно, изначально и была, пока не смотали, оголив, в цивилизованные клубки мохера, который в Союзе, помнится, считался дефицитом….
Стараясь не задевать углы, я дошел до шторы, откинул ее, вызвав отвратительный звук, сдвинул влево привычно заедающую на нижних рейках алюминиево-стеклянную дверь и вышел на воздух. Месяц был гнусный и на Западе. Ноябрь.
Я стоял, опершись на перила, созерцая далекое дно, выложенное бетонными плитами, влажно мерцающими в свете вывесок и фонарей, потом — свою руку с сигаретой, срез фильтра, заметно темнеющий с каждой затяжкой, как бы наливающийся ядом.
Сумерки сгущались, пора было уходить.
Я долистал ее тетради. Разочарование! Детский почерк становился все взрослей и взрослей, но ничего интимного не возникало. Песни. Стихотворения, обрамленные цветочками и вензелями. Изречения. Афоризмы. Мудрые мысли, среди которых мне то и дело попадалась странная для подростка тема…
Abimes, abimes, abimes. C’est lä le monde. Бездны, бездны, бездны. Вот это мир и есть (Victor Hugo).
L'abime appel I'abime. Бездна призывает бездну (David).
Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. — И перевод на французский:
Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Si tu plonges longtemps ton regard dans I'abime, l'abime te regardera aussi. Friedrich Nietzsche. По ту сторону добра и зла.
Я не смог не произнести это вслух:
— Par-delä le bien et le mal…
Перед тем, как покинуть квартиру, я наклеил обратно на дверь гостиной распоряжение самоубийцы о моем новом статусе. Чтобы знали все те, у кого могла быть копия ключа.
На следующее утро я позвонил нашей секретарше Зденке, сказать, что на митинге не буду. Приехал в «Арабеллу» часам к 9, и, защелкнув дверь, понял, что не один. Кто-то был в спальне.
Первая мысль: Летиция вернулась. Нет, не воскресла: просто не умирала, а все, что произошло, просто какой-то misunderstanding.
Дверь была приоткрыта, я заглянул. Шторы там сдвинуты, и в полумраке я увидел женщину, стоящую на коленях в расстегнутом белом плаще: воротник поднят, кожаные полы лежат на полу, где стоят снятые туфли на высоких каблуках. «Летиция!» — рвался из меня оклик, но, к счастью, я его сдержал. Женщина оглянулась. Это была Содомка-Йост. Нет, она не встала мне навстречу. «Я сразу поняла, что это вы», — сказала она, объяснив, что у нее с давних времен дубликат ключа и возобновляя свое коленопреклоненное занятие. Тумбочка была распахнута, ящички выдвинуты. Она рылась в медикаментах, читала наклейки, одни таблетки оставляла, другие бросала в пластиковый мешок одного из модных магазинов, опоясывающих «Арабеллу» на первом этаже. С точки зрения экзекьютора/душеприказчика, все это было несколько предосудительно. Приехать сюда спозаранку из Швабинга, где у этой хипповатой врачихи был кабинет, и это при том, что вставать рано не любит, и когда к ней приходишь сдавать кровь на анализ — натощак — неизменно принимает простоволосой, простогрудой и в халате. Чего-то опасалась она, Со-домка-Иост. Но, в конце концов, Летиция, сосватавшая ей меня, была не только пациенткой, но и подругой, которой, надо полагать, годами прописывалось нечто, чему лучше не значиться в описи брошенного на меня добра.