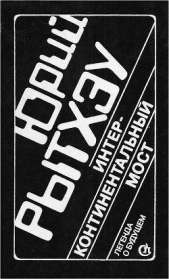Мост через Лету

Мост через Лету читать книгу онлайн
Юрий Гальперин, один из самых интересных русских прозаиков второй половины XX века, почти не известен в России. Три главные его вещи — «Играем блюз», «Мост через Лету» и «Русский вариант» — не могли быть опубликованы в Советской России. Широкому читателю на родине они стали доступны только в середине девяностых, однако потонули в потоке «возвращенной литературы». Это, конечно, несправедливо.
По слову Андрея Битова, «Гальперин тяготеет к той культурной ветви, которая привита к стволу русской литературы Набоковым». Действительно, ироничная, стильная, умная проза Гальперина сравнима по чистоте и мастерству с набоковской; однако, с одним отличием: проза Гальперина теплее и человечнее, она обращена прежде всего к живой и непосредственной эмоции читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вернулся с порога.
— Купаться, в такой дождь?
— Не знаю… Ты с Ивлевым?
— Я приду.
В квартире таял полумрак. Капли барабанили по жестяному карнизу, брызги залетали в окно. Паркет перед подоконником набух. Отсветы сада зелеными бликами шевелились на стенах. Я присел на столик у зеркала. Дверь отперта. Дождь лил не переставая.
Маша вошла и остановилась, взмахнув сумкой. Она была в светлом платье без рукавов, легком и прозрачном.
— Ты как статуя!
— Не кричи.
— Почему нельзя?
И я ответил шепотом:
— Дождь…
Она смеялась и ждала, когда я освобожу ее от зонта. В другой руке держала мокрые ромашки.
Я налил воды в химическую мензурку, поставил цветы. Маша сидела на кушетке и наблюдала. Потом я стоял у окна, и на рубашку сыпались брызги. Теплый ливень струился с высоты. Вода бежала по глянцевитым листьям. Деревья опустили мокрые ветви, как руки.
Маша сидела, прислонив плечо к жесткому ковру. И я почувствовал, как колют ворсинки, впиваются в загорелую кожу. Едва дыша, я присел рядом, осторожно и легко подсунул ладонь, и пальцы ощутили мягкое тепло.
Мы оба были смущены. Мы молчали. С каждой минутой становилось труднее. Я слышал, как она дышала. Нам было трудно в комнате. Невыносимо. И мы вышли под дождь.
— Зонт не взяла…
Водопад с крыш обрушивался за шиворот. Мы шли обнявшись. Машины шурша катили мимо, объезжали нас. В черном зеркале асфальта плыли красные и белые огни. Мокрый и вечерний мир куда-то спешил. Под фонарями блестела голубая трава.
Сгущались сумерки. Мы сидели на скамейке в заросшем саду. За стеклянной сеткой дождя белели колонны, размытые очертания императорского замка. Стало легко и спокойно. Никогда еще не было так тихо и просто.
— Пойдем домой?
Крупная рябь сыпала по лужам и по тротуарам. Шумели ночные деревья. Светящиеся струи рассыпались нитяным серебром. Ее платье сделалось прозрачно, как лед. Туфли размокли и спадали с ног. По лестнице мы поднялись босиком.
— Свет не нужно…
Губы нечаянно дрожали.
— Я не боюсь.
Пустые одежды лежали брошенные, кольцо в кольцо.
Шумели ливни, струи стекали по стеклу. Бледное сияние фонарей выхватывало из темноты мокрую зелень сада. И отчетливо было слышно, как теплые капли стучат по упругой листве.
— А тебе можно?
— Два дня, а потом опасно.
— Я потерплю…
Она смеялась и гладила плечо. Я лежал, уткнув нос в подушку.
— Ты совсем не умеешь терпеть.
— Научусь.
— Может быть, ты и сейчас терпишь, а? Измученная и умиротворенная, она засыпала.
Я лежал на спине, закинув затекшие руки за голову, не решаясь шевельнуться. На плече беззащитно дремала Маша, Мария, Машенька — женщина, которую я люблю. У нее самое популярное имя в Союзе, прохладные губы, льняные волосы. Если она плачет, у нее краснеет нос. А однажды…
В чистой ночи на стене шевелился прямоугольник света от качающегося фонаря. Прямоугольник колыхался, рассеченный неподвижной тенью оконного переплета. Маша лежала тихо, затаилась — она не спала.
— Не спишь? — спросила она строго, скрывая голосом тревогу и ревность.
— Холодно.
Она села на постели, натянув пододеяльник до подбородка. Я должен был ее успокоить и утешить, отвлечь.
— Весной укатим на юг, на Пицунду…
— О чем ты думаешь все время? — спросила она.
— Я не думаю. Не умею думать… Слова вертятся в голове.
— Я видела на столе листы. Исписанные. Ты это придумал?
Я еще не знал, как назвать. Просто листы на столе.
— Сочиняешь во время экзаменов?
— Если честно, мне лень поступать в универ.
— Конечно! Болтаться между небом и землей: сочинять и бродяжничать, — расстроенно сказала она. — Писателем хочешь стать, да?..
— Зачем ты так?
— Честных писателей не печатают. А по-другому тебе не интересно. По-другому писать ты не станешь.
— Не так уж безнадежно под луной.
— Ты обо мне совсем не думаешь. Ты как твой отец.
— Я с ума сойду, если стану думать о тебе.
Ее молчание вплеталось в молчание ночи. Проехал грузовик, и все стихло. Ветер раскачивал макушки тополей.
— Это грустно, — сказала она. — Вот я с тобой, и больше ничего не надо. Кто бы мог подумать, что это так просто.
— А мне все надо! Все! Весь мир!
Я выкрикнул и сник под ее взглядом.
— Все — это и есть ничего. Ты глупый. Ты меня любишь?
— Таких больше нет.
И, словно доверчивый итог обмана, ее ровное дыхание.
10
Веселый зелененький ресторан-поплавок с шаткими галереями и резными деревянными колоннами, выкрашенными в белый, чем-то похожий на марк-твеновский пароход на Миссисипи, плавно и ощутимо покачивался в черной воде канала, на крутой волне от проходившего близко катера.
Студенты, негры из университетского общежития, фарцовщики и центровые с Невского, матросы торгового флота и портовые грузчики, поднаторевшие на перепродаже пластинок, лабухи, музыкальные критики и всезнайки из джаз-клуба, битломаны и даже дипломаты собирались в розовом зале за тяжелыми столами, покрытыми застиранными, но крахмальными скатертями. У входа выстраивалась очередь. Седовласый швейцар в ливрее — вылитый адмирал — привычно отражал напор желающих: они осаждали ресторан. Для тех, кто замешкался, не успел, не позаботился заранее о месте, не оставалось надежды попасть в зал. Публика сидела до упора, как на концерте. «Идут и идут… — ворчал швейцар, запирая дверь перед возмущенным лицом женственного длинноволосого хиппи. — И что идут, медом им тут помазано? Плану от волосатиков-то не жди…» О чаевых он уже не мечтал. И верно, заказывали кофе и почти не ели. А пили тайком принесенное с собой. Публика собиралась слушать джаз.
По набережной, празднично освещенной огнями окон, спускаясь от моста через Невку в устье Кронверкского канала, в тот вечер я непривычно робел. «Вот возьмет и не пустит?..» С нарочитой уверенностью проталкивался через толпу на сходнях, внимавшую доносившимся с реки звукам оркестра. Уже представлял, как Цербер притворно меня не узнает, не открывает, и я остаюсь в теплой августовской толчее у входа. Разухабистые синкопы отчаянной ниточкой, звуковым пунктиром, как невидимым мостом, связывали меня с теми, кто внутри, в ресторане, кто тоже слушает и ждет. Ждет — в этом-то я был уверен. И оттого чувствовал себя, как провинившийся школьник, как прогульщик. И громче, чем требовалось, стучал монеткой в зеркальное стекло.
Недовольное лицо швейцара расплывалось в табачном дыму вестибюля. Проскальзывая в приоткрытую дверь, я слышал ропот за спиной и ворчливое бормотание сквозь бороду: «Разве можно так! Стекло расколешь. Папаше твоему век не расплатиться…»
Нетерпеливо, не дослушав упрек ворчуна, по крутому вертикальному трапу (ступени под мягким ковром окованы сталью) я поднялся в гудящее чрево ресторана, где сновали с подносами официанты в белых, уже не свежих куртках, пьяно звенела посуда, нелепая пара пыталась танцевать возле эстрады. Но самое главное: на краю площадки раскачивался высокий, тонкий, как трость кларнета, саксофонист. В свете ламп он казался взрослее, улыбался в зал бесстрастным знакомым лицом. И когда я вошел, — мне показалось, он увидел и опять улыбнулся.
Пианист выдыхался. Ударник подстегивал, подгонял ритм щетками. Торопил контрабас. Они оставляли его одного, оставляли совсем одного, опять вступали. Но вот: саксофон ухнул ночной разбуженной птицей. Звук вспорхнул. Оборвался. Упал. Словно слепой щенок тыкался по углам — не находил выхода… Плакал ребенок… Плач нарастал.
Мне махнули от столика. Рядом с отцом девушка в юбке гофре по тогдашней моде, в немыслимой блузке — бабушкины кружева — держала свободное место, закинув ноги на стул (в той ситуации единственный способ удержать). И я увидел замечательно круглые, как судьба, ее коленки, мгновенно взволнованный, улыбнулся и отметил — она тоже не выдержала, дрогнули губы. Злые брызги растаяли в глазах.