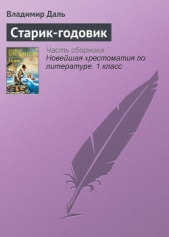Лазалки

Лазалки читать книгу онлайн
Новая книга талантливой писательницы Ульи Новы поможет вернуться в страну детства и вновь пережить ощущение необъятности мира, заключенного, быть может, в границы одного микрорайона или двора с детской площадкой и неизменно скрипучими ржавыми качелями… И тогда город тревог, овеянный бесцветными больничными ветрами, превращается в город лазалок, где можно коснуться ладошкой неба, где серебряный ветер пропеллеров насвистывает в губные гармошки входных дверей, где живут свобода и вдохновение, помогающие все преодолеть и все победить…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мука вьется по кухне, перемешанная с голубоватым чадом сковороды, в которой шипят сырники. Дед вручает бабушке: «Возьмите, товарищ начальник!» – два свернутых в трубочку рубля и еще пятнадцать копеек. Она, не оборачиваясь, командует: «Куда мне их. Положи на стол». Дед ставит на подоконник бидоны и авоську с батоном, от которого отщипана горбушка. В другой раз он бы тут же отрезал истерзанный кусок, чтобы скрыть наше маленькое преступление. Но сегодня он опускается на табурет и наблюдает за людьми возле подъезда соседнего дома. Там человек пятнадцать переминаются с ноги на ногу и чего-то рассматривают в лужах. Напялив неубедительное Какнивчемнебывало, дед откусывает сырник. Обжигается. Кладет на блюдечко. И тихо докладывает: «Ладно, пойду прилягу на полчасика». Шаркая тапками, он медленно бредет в комнату. Обычно в таких случаях бабушка смешливо бросает ему в спину: «Устал-уработался». Но сейчас она рассеянно вытирает руки о кухонное полотенце и марширует следом. В комнате зеленоватый сумрак от наполовину задвинутых штор. Бабушка оглядывает деда пристальным, пронзительным взглядом, говорит «Дай-ка», ловит его руку. Замирает, утопив пальцы в запястье. По дому вдруг начинает растекаться едва уловимый запах розовой воды. В вихре воспоминаний они вдвоем мгновенно переносятся в день знакомства: в приемную военного госпиталя, забитую ранеными и снующими туда-сюда медсестрами в перепоясанных под грудью белых халатиках. Дед снова, бледный, оглушенный, как тогда, после контузии, лежит в тусклом свете окна. Бабушка стоит над ним, грозит пальцем, требуя тишины, поглядывает на часы, считает пульс. И благодаря сердечному приступу они снова возвращают тот день, всего на несколько мгновений, которые врываются из прошлого запахом карболки и обдают лицо волнами розовой воды. Бабушка заглядывает деду в лицо, снова, как и тогда, чувствует резкий толчок в грудь. Как будто что-то теплое разбивается вдребезги, растекается внутри, вызывая нежность и смутное чувство узнавания. «Ты понимаешь, он лежал на носилках: брюки галифе с лампасами, расстегнутый китель, кудри. Как передать это ощущение, даже не знаю. Вдруг показалось, что этот человек совсем не чужой и мы знали друг друга много лет».
Аккуратно пригладив волосы, чтобы надо лбом челка лежала двумя волнами, расправив спину и зажав большие пальцы в кулаках, бабушка отправляется на кухню кипятить шприц для укола. Толпа у соседнего дома не расходится, потом из двери подъезда вырывается искра, среди черных пиджаков загорается красный огонек. И постепенно алое пламя разрастается среди расступающихся людей. В этот момент в железном биксе сдавленно и тихо хлопает. Приоткрыв крышку, выпустив в кухню сиреневый клубящийся пар, бабушка обнаруживает в неистово бурлящей воде несколько железных игл и большой, лопнувший шприц. Прошипев: «Вот наказание», – она бросается в комнату, роется в деревянном ящике с лекарствами, повсюду расползается горьковатый суровый запах таблеток. От него хочется отвернуться, зажать пальцами нос, замотать головой и убежать: через дорогу и поле в лес, где скрывается ночной синий ветер. Это горечь анальгина, ментола и димедрола, горечь узнавания тайн. Отыскав в коробке новенький шприц, проверив, как работает поршень, бабушка возвращается на кухню. В этот момент на улице взрезает тишину дворов, вспарывает небо пронзительный, звенящий гудок. Следом за ним, будто проснувшись, гнусаво и нестройно, завывают трубы. За лазалками, песочницей, каруселью и горкой, по асфальтированной дорожке сбивчиво движется толпа. Вяло ковыляет старушка в цигейковой безрукавке. И сухенький, трясущийся старичок с клюкой. Курит на ходу продавец снов в синем халате. Галя Песня бредет позади всех, судорожно приглаживая растрепанные седые патлы. Мальчик бежит, подтаскиваемый за руку женщиной в зеленом махровом пальто. А в другой руке у нее огромный осыпающийся букет бордовых георгин. Впереди несколько мужчин несут на плечах мимо молоденьких кленов и пустых лавочек гроб, обтянутый красным атласом. Сначала они движутся, приноравливаясь друг к другу, от этого гроб качается, как на волнах. Потом они находят общий такт, медленно и туго маршируют в ногу, чуть ссутулившись, наклонив головы, дымя папиросами.
Бабушка аккуратно укладывает шприц пинцетом в кипящую воду, выпуская в кухню новый сноп клубящегося пара. Закрывает крышку бикса и, уперев кулаки в бока, замирает перед окном. «Ленька, что ли? А вон Константина Яковлевича ведут. Кто же это умер? В третьем подъезде. Там на втором этаже у Сереги-электрика была прободная язва. Но мы его вроде выписали в хорошем состоянии. Обещал больше не пить». Так бормочет бабушка сама с собой, наблюдая, как перед процессией движется небольшой похоронный оркестр, позволяя пропитать окрестные дворы всхлипами. Окатить крыши, окна и двери подъездов тревожными отзвуками воя. Бабушка не догадывается, что во всем виноваты продавцы снов, их синие весы и большие ржавые гири. Однажды ночь наступает, а сны еще не подвезли. Тоненький луч фонаря пробивается сквозь щелочку штор, грузовик с коробками снов тревожно гудит за окном, и продавцы суетятся вокруг своих старых весов. Они высыпают сны на алюминиевую чашку, а на другую – аккуратно ставят гири. А маленьких гирек у них нет. Поэтому они всегда отмеряют на глаз. Но в этот раз, из-за того, что грузовик припозднился, они насыпают снов немного больше, чем обычно. Темно-синих, черно-белых, бежевых. Снов для взрослых, в которых никто не летает. Окутанных туманом. Насыщенных тревожными звуками и стремительными движениями. Просматривая их, спящий устает и стареет. Устает и стареет каждую ночь все больше. И однажды одна-единственная, средняя гирька из-за спешки выпадет из рук усатого низенького продавца, закатится под шкаф. Из-за этого снов в кульке окажется значительно больше. Темно-бордовых, бурых, мутно-синих. Стремительно проносящихся сквозь спящего. Принимающих очертания соснового леса, поля, затянутого дымом, окутанного стрекотом пулеметов, выездного шоссе из города, яблок-китайка, что усыпают землю между стволов школьного сада. И сны будут бесконечно теснить друг друга, пихаться и напирать, чтобы заполучить свой долгожданный миг, свою минуту внимания. Они на полном скаку ворвутся, вспыхнут, один за другим, не давая проснуться. Поэтому продавец снов в синем халате неторопливо бредет за гробом, дымит папироской, заглядывает в лужи и щурится на провода, стараясь не выглядеть виноватым. И прижимает к груди два мятых гладиолуса, купленные у мальчишек на станции.
Очнувшись, пузатый человечек в синей болоньевой куртке и шапке-петушке яростно и неумолимо бьет в большой барабан. Квакающие выдохи труб и тромбона пугают воробьев, голубей и кошек, заставляют вздрогнуть старичков, лежащих на диванах с газетами, тревожат дремлющих перед телевизорами пенсионерок. Выкрики труб стихают эхом, вьются кривыми лентами пепла, врываются в открытые фортки, рассыпаются в черную-пречерную сажу, оседают на стенах и потолке. Они привлекают к окнам тетушек, стирающих майки и кальсоны: жирными брусками хозяйственного мыла в больших алюминиевых тазах. Заставляют прислушаться даже слесаря, который чинит кран в ванной, присев на корточки под раковиной, с большим разводным ключом. Гнусавые завывания тромбона отрывает друг от друга соседок, ссорящихся из-за сорванного замка на почтовом ящике. Заставляют жителей всех окрестных домов выглядывать из окон и тут же, ошпаренно отпрянув, выглядывать снова, с тревогой, с любопытством спрашивая: «Кто же такой умер?» И это бесплатная, черная-пречерная лотерея городка.
Трубы почти умолкают, уступая всхлипам, беспечным звукам далеких гудков, хлопанью крыльев, стукам колес о рельсы, выкрикам футболистов со стороны школы. Потом, немного переждав, трубы визжат в небо снова. Фальшиво и гнусаво, как сирены «скорой помощи», как заводские гудки. Чтобы разбуженный черным и алым нехотя вслушивался в их дрожащие звуки. Воспользовавшись моей растерянностью, неловкостью и испугом, бабушка настойчиво шепчет: «Нельзя волновать деда, пойми! Он бегал за тобой, а теперь вон бледный лежит. Пульс под сто. А то дождетесь вы с матерью, будут его вот так нести в гробу. Ты же не хочешь, чтобы твоего деда вот так несли… А на его похороны соберется весь город, вот увидишь». Она шепчет, спокойно и сурово следя за процессией. И необходимо прямо сейчас, срочно что-нибудь предпринять. Выскочить из-за стола и убежать в комнату. Или выкрикнуть, громко и возмущенно, чтобы бабушкины зловещие предсказания поскорее улетучились из серого клубящегося воздуха кухни. Или одним решительным и быстрым рывком занавесить шторы, заткнуть уши, чтобы черное и красное перестало существовать. Но если не вскакивать, не кричать, не занавешивать шторы, а молча сидеть за столом, наблюдая черную-пречерную толпу и гроб, обтянутый алым атласом, тогда, стремительно и грозно, из серых низких облаков в самую середину груди врывается тайна. Она обжигает, сотрясает и искривляет все внутри. Огромная тайна-угроза, тайна-предупреждение, обретение которой приносит боль. Ожог заставляет проснуться и понять, о чем бабушка шепчет, немного нагнувшись, воровато поглядывая в сторону двери: «Дед очень сильно сдал. Посерел весь. Ты посмотри на его фотографию, которую мы сделали недавно в ателье, помнишь?» Тогда тайна распускается, заполняет все внутри и кричит над окрестными дворами, над каруселью, похоронным оркестром и кружевными косынками всхлипывающих женщин: «Больше туда ни ногой!» И это означает, строго-настрого, что больше никогда. Больше ни шагу на стенку-лазалку, рассекающую жизнь на до и после. Не махать самолетам и не гладить небо. Не бежать по перекладинам вперед, только вперед, одним решительным и резким рывком. Потому что с каждой новой лазалкой дед слабеет и бледнеет все больше. С каждой покоренной мной лестницей в небо, делящей жизнь на до и после, дед сдает, что означает – сдается врагу. И поэтому, даже если Славка-шпана будет дразнить трусихой и девчонкой, больше ни ногой на лазалку возле школы, самую высокую в городе, над верхней перекладиной которой ползут облака. Пусть за это Марина, превратившись во вредину, обстреливает из-под бровей зелеными недоверчивыми взглядами, похожими на выпушенную из рогатки неспелую рябину. А рыжий Леня – кричит на все дворы, что, раз я не полезла на самый верх вместе со всеми, значит, никогда не полечу на самолете и всю жизнь буду ходить за молоком со своим странным дедом и его маленькой злой собачкой. Ворвавшись, втиснувшись, тайна не умещается внутри. От нее сбивается выдох и голубь разрастается в горле. От нее хочется избавиться, но больше некуда убежать, негде укрыться, потому что она стала частью этого дня, отделилась от тишины, прозвучала, раскрылась и проросла. Требуя неукоснительного подчинения и предупреждая. Не лазать вместе со всеми на самый верх, и тогда все будет хорошо. Тогда деда не понесут в обтянутом алым атласом гробу по улице, перед окнами стольких домов, впереди толпы. Трубы, уже где-то вдали, в самом конце дорожки, предупреждающе всхлипывают. Их звук плывет над дворами, над переулками, врывается в форточки, в приоткрытое окно магазина «Молоко», в выжженное окно магазина «Продукты», в двери подъездов и ремонтных мастерских. Красноватыми от пара руками бабушка насаживает железную иглу на толстый, мутный после кипячения шприц. Тоненькая стеклянная шейка ампулы скрежещет под наждаком пилки. Ухватив кусочком ватки, бабушка ломает ампулу с тихим резким хлопком-хрустом. Умелым привычным движением она набирает прозрачную жидкость в шприц. Выпускает в потолок тоненькую струйку. И бесстрастно отправляется делать укол, переживать заново день их знакомства в военном госпитале, вглядываться в лицо, задергивать шторы, трогать лоб, пересчитывать пульс, укрывать верблюжьим одеялом. А потом, замерев, тихонько и пристально наблюдать, как дед засыпает.