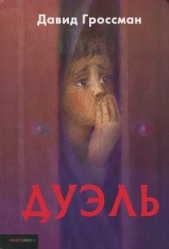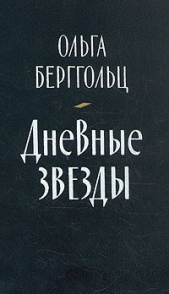См. статью «Любовь»
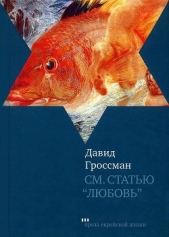
См. статью «Любовь» читать книгу онлайн
Давид Гроссман (р. 1954) — один из самых известных современных израильских писателей. Главное произведение Гроссмана, многоплановый роман «См. статью „Любовь“», принес автору мировую известность. Роман посвящен теме Катастрофы европейского еврейства, в которой отец писателя, выходец из Польши, потерял всех своих близких.
В сложной структуре произведения искусно переплетаются художественные методы и направления, от сугубого реализма и цитирования подлинных исторических документов до метафорических описаний откровенно фантастических приключений героев. Есть тут и обращение к притче, к вечным сюжетам народного сказания, и ядовитая пародия. Однако за всем этим многообразием стоит настойчивая попытка осмыслить и показать противостояние беззащитной творческой личности и безумного торжествующего нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Понимаешь… — говорит Найгель, — в поезде я почему-то вспомнил о нем. Новый персонаж. И как нельзя лучше подходит для твоего Отто. Просто-таки создан для его сада. Как ты считаешь?
— Хм-м… — отвечает Вассерман. — Исполним и выслушаем.
Из-за двери доносится не слишком громкий и даже не лишенный приятности свист Штауке (см. статью Штауке), в недоумении размышляющего о причине задержки долгожданных выстрелов. Терпение его подходит к концу и вот-вот лопнет, однако что-то останавливает его от того, чтобы еще раз сунуться к Найгелю. Найгель не уйдет, Найгель попался, он обязательно пустит пулю себе в лоб!
— Как ты считаешь? — повторяет Найгель. — Молодой парень. Примерно лет двадцати. Да, около того… И он — ты слышишь? — Нотки мольбы звучат в его голосе. — Он потушит солнце. Да, представь себе — солнце! Подскажи мне подходящее имя для него, герр Вассерман. Какое-нибудь такое хорошенькое еврейское имя. И говори, пожалуйста, погромче, тебя совершенно не слышно. Как ты сказал? Рихтер? Прекрасно! Пускай будет Рихтер. Но запиши, я хочу, чтобы это было записано: он обязан присутствовать в рассказе. И запомни — он мой. Если когда-нибудь тебе доведется рассказывать эту историю, не забудь: Рихтер мой, это я придумал его. Хорошо? Что? Я с трудом слышу тебя! Вот он уже свистит — проклятый ночной транспорт. Уже прибыл… Что он умеет делать? Ох-охо!.. — смеется Найгель неожиданно громко и радостно. — Что он умеет делать!.. Ох-охо!.. Записывай, Шахерезада, записывай! Слово в слово! Будучи еще ребенком, он оказался в одном из ваших гетто, допустим, в Лодзи, и успел кое-что повидать там. Акции, например. Ты вообще-то знаешь, что такое акция, герр Вассерман? Акция — это… Не важно! Забудь про это. Ты не обязан знать. Гораздо лучше для тебя оставаться в мире твоих сказок. Да. Потому что акция… Это не такая уж приятная вещь. И не такая уж легкая. Это… — присвистывает он, вторя не то Штауке, не то подкатывающему составу, протяжно и уныло присвистывает сквозь зубы, возможно пытаясь передать этим звуком всю неэстетичность и досадную обременительность акции, а может, заглушить нестерпимо резкие свистки украинцев.
— Он видел там, — продолжает Найгель свой рассказ, — да, всякое повидал там и с тех пор начал смотреть на солнце. Упирался взглядом в самый центр этого дурацкого круглого диска, который целыми днями пялится на землю, все видит, но ничего не понимает и ничего не предпринимает. Не делает ровным счетом ничего для того, чтобы загасить себя или спалить к чертовой матери весь этот никудышный мир. И Рихтер направлял свой взгляд прямо в это слепящее пламя… Это я придумал по дороге в Берлин. Как только выехал отсюда, почувствовал… Не знаю, вдруг возникла идея. Поначалу это представлялось мне жестоким таким экспериментом, как у всех твоих мастеров искусств — мужчины направо, женщины налево! Дети и старики в лазарет! Там наш доктор Штауке сделает вам укол — маленький такой укольчик, совсем не больно. Прививка против тифа, который свирепствует теперь на Востоке. И он, Рихтер, смотрел прямо на солнце и, конечно, сжег себе глаза, веки его распухли и склеились от гноя, слезы текли ручьем, но он поклялся себе… Раздеться!.. Всем раздеться! Догола! Нечего стыдиться. У каждого есть в точности то, что и у всех остальных. И вот постепенно, через несколько дней, солнце начало сдаваться. Уступать. Действительно так. В берлинской обсерватории, возможно, на это не обратили внимания, но это не имеет никакого значения. Солнце начало пятиться… Теперь шнель! Быстро! На дезинфекцию. Это оказались самые тяжелые дни для Рихтера, потому что он вдруг начал бояться. Бегом, жидочки, бегом, больше жизни! Он начал думать, что причиняет ужасное страдание, ужасное бедствие всему миру из-за того, что отнимает у него солнце, но он был подлинный мастер, подлинный маэстро в своем искусстве, поэтому продолжал смотреть прямо в его пылающую бездну до тех пор, пока оно совершенно не погасло. Первым пятидесяти заходить внутрь! Внутрь! Молчать! Это только дезинфекция. И все погрузилось во тьму. Полный мрак, полный! — стонет Найгель и закатывает под потолок свои красные, абсолютно безумные глаза, величественно машет рукой и спрашивает Вассермана — каково? Как ему понравился подарок? Подходит для его рассказа?
— Замечательно, — отвечает еврей.
— Теперь ты продолжай, — требует Найгель.
Вассерман переворачивает страницу в своей пустой тетради и готовится приступить к «чтению», но вдруг слышит, как доктор Фрид говорит Отто, что этот подарок, этот Рихтер, как-то не соответствует первоначальной идее «Сынов сердца». В этой истории нет подлинной глубины, она, в сущности, совершенно не отделана. Это только заготовка. Но Отто негромко, но вполне категорично, отвечает доктору, что он принимает юного Рихтера в свою команду — скорее из сострадания (см. статью милосердие), поскольку…
Отто: Альберт, какие бы великие и возвышенные идеи ни воодушевляли нас, нельзя нам ни на минуту прекращать сострадать одному-единственному человеку, просто одному никому не известному несчастному человеку, потому что иначе мы ничем не лучше их — да сотрется их имя и память о них!
— Штауке, штурмбаннфюрер Зигфрид Штауке, уроженец Дюссельдорфа, заместитель Найгеля.
Согласно заключению, представленному специальной медицинской комиссией по результатам психиатрической экспертизы, проведенной в 1946 году незадолго до самоубийства Штауке, это был патологический садист, наделенный нормальным (или даже выше среднего) интеллектом, но страдавший синдромом полного отсутствия совести (см. статью совесть). Осталось невыясненным, что именно заставило Штауке покончить с собой. Во всяком случае, он ни разу не проявил никаких признаков раскаяния в содеянном.
Безжалостный убийца и истязатель огромного числа ни в чем не повинных людей, после ареста он быстро превратился в жалкого сломленного труса.
Ниже приводится история его взаимоотношений с соратниками и продвижения по служебной лестнице вплоть до занятия поста заместителя коменданта лагеря уничтожения, на котором он пребывал в течение одиннадцати месяцев. С самого начала Штауке прикладывал массу усилий к тому, чтобы избавиться от этого, по его выражению, «баварского дегенерата», но все его происки и интриги не давали желаемых результатов. Действия Найгеля не только не вызывали ни малейших нареканий со стороны высшего начальства, но, напротив, встречали горячую поддержку и одобрение. Сам рейхсфюрер Гиммлер не раз с большой симпатией отзывался о нем и покровительствовал ему. Так продолжалось до сентября сорок третьего года, когда Найгель поселил в своем бараке на территории лагеря в качестве «домашнего еврея» Аншела Вассермана. Штауке учуял тут долгожданный шанс скомпрометировать соперника и даже позволил себе заметить по этому поводу, что звание «домашнего еврея» вовсе не дает мерзкому жиду права проживания в доме хозяина. Найгель в великом гневе осадил зарвавшегося подчиненного и посоветовал ему оставить свое мнение при себе. Однако Штауке, разумеется, не унялся и принялся действовать тихой сапой: словечко тут, словечко там, тем более что странные признаки чего-то таинственного и подозрительного множились. Найгель, к удивлению Штауке, вдруг сделался гораздо более приветливым и снисходительным с подчиненными и принялся задавать совершенно непривычные вопросы. Действительно, Штауке считался человеком умным и образованным (очевидно, благодаря своему положению «врача»), и сослуживцы время от времени обращались к нему за советом, но зачем Найгелю вдруг потребовались сведения из области системных заболеваний крови и эпилепсии, осталось для Штауке загадкой. Пытаясь объяснить свой неожиданный интерес к этим предметам, Найгель принялся бормотать что-то о больной тетке, но Штауке тотчас по всему учуял, что это вранье. «Такие люди не умеют врать. Вы тут же видите, как от напряжения жилы вздуваются у них на лбу. Всегда и во всем патологически правдивы — правда и ничего, кроме правды! Поэтому они столь скучны…» (из интервью, данного американскому журналисту в 1946 году). Потом шофер Найгеля проболтался о странной поездке в район Борислава — поездке, о которой Найгель так и не рассказал никому, ни единым словом не заикнулся. Штауке сумел установить личность офицера, сопровождавшего Найгеля в этом предприятии, связался с ним по телефону и услышал еще множество любопытнейших вещей. Выяснилось, например, что его начальник вдруг остро заинтересовался историей давно всеми позабытого продукта нефтедобычи под названием «лепек» и делал в связи с этим странные намеки на старинные ямы и шахты, из которых сто лет назад вычерпывали нефть, заявляя, что намерен организовать нечто подобное в окрестностях своего лагеря и заставить таким образом заключенных трудиться на благо Рейха. Узнав все это, Штауке сильно приободрился и принялся насвистывать известный мотивчик из «Цыганского барона». В тот же самый день Найгель вызвал его к себе в кабинет и как бы между прочим задал несколько вопросов относительно сезонных перемещений лис и зимней спячки кроликов — или, наоборот, сезонных миграций кроликов и зимней спячки лис. И весьма громко и неестественно смеялся при этом. Попытался объяснить: «Это для моего наследника, для Карла». «Он вдруг начал расспрашивать меня об этом» (из интервью). И наконец этот случай с проклятым жидёнком, который выхватил на химмельштрассе ружье у охранника и принялся стрелять, и все, а не только Штауке, успели заметить растерянность и нерешительность Найгеля (см. статью бунт). Штауке начал с особым вниманием приглядываться к украинцам, которые все чаще дивились весьма необычным отношениям между комендантом и этим его еврейчиком. Доверенные доносители сообщили, что Найгель по вечерам сидит с евреем, запершись в своем кабинете, и они о чем-то беседуют. Опанасенко, украинец, постоянно несущий охрану барака коменданта, рассказал (благодаря всего лишь одной бутылке шнапса) о том, что из-за двери время от времени доносится смех и прочие странные звуки, «как будто кто-то там рассказывает сынишке сказку перед сном, если вы понимаете меня». Не один только Штауке, но и многие другие стали замечать необъяснимые странности в поведении Найгеля. Даже внешне он уже не выглядел прежним бравым подтянутым офицером, во всем его облике появилась какая-то небрежность, усталость, неухоженность, участились приступы ярости, из-за любого пустяка он устраивал истерики и нападал на подчиненных, безжалостно наказывал не только не угодивших ему украинцев, но и не известно чем провинившихся немецких солдат, короче говоря, Штауке не спускал с него глаз и с нетерпением ожидал того момента, когда можно будет нанести ненавистному баварцу сокрушительный удар. В тот день, когда Найгель отправился в отпуск (см. статью отпуск), в лагерь прибыл специальный курьер, который пожелал абсолютно конфиденциально, с глазу на глаз, побеседовать со Штауке. Это был пожилой штандартенфюрер из военной цензуры, который показал Штауке семь фотокопий писем, отправленных из этого лагеря и, без сомнения, написанных рукой его коменданта. Штауке прочел и едва не расхохотался: кто бы поверил, что в этой угрюмой и тупой глыбе мяса скрывается сентиментальный мечтатель! Спятивший лирик! Текст повествовал о своре престарелых сумасшедших, о каких-то сердцах, начертанных мелом на стволах деревьев, о человеке, который стремился преодолеть преграды, отделяющие одну человеческую особь от другой, и сделать для них понятной их взаимную любовь, и о еще об одном, который пытался разводить чувства (см. статью эмоции), как разводят цветы на клумбе или лук на грядке, и выводить новые виды. Все это было столь дико, смехотворно и предельно глупо, что Штауке счел своим долгом успокоить цензора: тут не может идти речи о секретном коде вражеской разведки. Это просто-напросто невинное инфантильное бумагомарательство офицера, рассудок которого, как видно, не выдерживает напряжения ежедневной работы. Штауке попытался убедить штандартенфюрера, что не следует придавать этому большого значения и налагать санкции на автора текста, поскольку это может отрицательно отразиться на боевом духе его подчиненных, который и без того заметно упал с тех пор, как «у нашего несчастного коменданта начались эти болезненные приступы расстройства сознания».