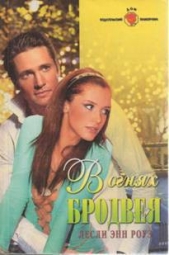Каббалист с Восточного Бродвея

Каббалист с Восточного Бродвея читать книгу онлайн
Исаак Башевис Зингер (1904–1991), лауреат Нобелевской премии, родился в Польше, в семье потомственных раввинов. В 1935 году эмигрировал в США. Все творчество Зингера вырастает из его собственного жизненного опыта, знакомого ему быта еврейских кварталов, еврейского фольклора. Его герои — это люди, пережившие Холокост, люди, которых судьба разбросала по миру, лишив дома, родных, вырвав из привычного окружения Они любят и ненавидят, грешат и молятся, философствуют и посмеиваются над собой. И никогда не теряют надежды.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сидя в тот день на Бродвее, мы, по своему обыкновению, заговорили о любви, верности и предательстве. Зейнвел сказал:
— Какого только предательства я не насмотрелся на своем веку, но того, что в тысяча девятьсот тридцать девятом году проделали на моих глазах эти бегуны, я и представить себе не мог.
— Бегуны? — переспросил я. — Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду мужчину и женщину в процессе бега, — ответил Зейнвел.
— Подождите, я возьму нам еще по чашечке кофе.
— Нет-нет, мне на сегодня кофе хватит.
— Еще чашечку выпьете. В крайнем случае я выпью ее за вас. В России чашку горячего кофе можно было заказать даже при большевиках, но в этом «краю обетованном» горячий кофе не раздобудешь ни за какие деньги. И не только в этом кафетерии, даже в «Астории». А также в Вашингтоне, Чикаго и Сан-Франциско. Знаете, есть такое явление: называется — коллективное помешательство. Я сейчас.
Зейнвел взял пустой поднос с соседнего столика и помчался к стойке. Но уже через секунду прибежал назад.
— Где мой чек? — выкрикнул он. — Если потерять чек, тут остается только один выход: покончить с собой.
— Зейнвел, — сказал я, чек у вас в руке.
— Что? Да, похоже, я совсем расстерялся в этой Америке. Может, у меня маразм?
Он опять пошел к стойке, прихватив по дороге брошенную кем-то газету. Вскоре он вернулся с двумя чашками кофе и бисквитным пирожным. Газета была вчерашней. Я дотронулся до чашки и сказал:
— Зейнвел, по-моему, эта чашка горячая. Что вы теперь скажете?
— Чашка, но не кофе, — отозвался Зейнвел. Обычный американский фокус: посуда горячая, а содержимое холодное. Для американцев не существует объективной реальности. Здешнего адвоката не заботит, виновен подсудимый или не виновен. Его волнует только одно: формальная безупречность собственной защиты. То же самое с американскими женщинами — они не хотят быть красивыми, они хотят выглядеть красивыми. Для них главное — макияж. Как только Адам и Ева обнаружили; что на них ничего нет, Ева кинулась делать одежду из фиговых листьев.
— Так кто же были эти бегуны? — перебил я его.
Зейнвел поглядел на меня с недоумением:
— А, да, бегуны. Они бежали от Гитлера после того, как по варшавскому радио объявили, что — причем чем быстрее, тем лучше — все должны перейти через Пражский мост в ту часть Польши, которая осталась за Сталиным после пакта Молотова-Риббентропа. Варшаву бомбили, дома лежали в руинах, убитые валялись прямо на улицах. Новый диктатор Рыдз-Смиглы, преемник Пилсудского, был такой же генерал, как я турок. Единственное, что в нем было генеральского, — это расшитая фуражка с блестящим козырьком. Наверное, трудно найти два более непохожих народа, чем поляки и евреи, но все-таки и у них есть кое-что общее: ничем не оправданный оптимизм. Еврей полагают, что Всемогущий, Который, между нами говоря, самый главный антисемит, любит их больше всех во Вселенной, а поляки верят в силу своих усов. У тогдашних польских генералов не было ничего, кроме латунных медалей и лихо подкрученных усов. Их солдаты отправились воевать с гитлеровскими танками верхом и с саблями, как во времена короля Собеского. А командиры, знай себе, расчесывали усы и до последней минуты уверяли всех, что победа будет за ними. Я жил в маленькой гостинице на улице Милно. Эта была такая укромная улочка, что ее даже почтальон не мог найти. Услышав объявление по радио, я схватил сумку и бросился бежать. Я понимал, что чемодан мне просто не унести. А некоторые тащили такие сундуки, которые даже верблюду были бы не под силу. — Зейнвел сделал глоток кофе и хмыкнул: — Холодный, как лед.
— А что произошло с беглецами? — спросил я.
— Одного из них вы, кстати, довольно хорошо знали. Фейтл Порисовер, драматург. Может быть, вы были знакомы и с его женой Цветл?
— Разве он был женат? — удивился я.
— Ах да, верно, он женился уже после вашего отъезда в Америку, — сказал Зейнвел, — Если помните, у Фейтла был высокий, тонкий голос, и поэтому все герои в его пьесах тоже разговаривали писклявыми голосами. Он пытался, подражать Чехову. Чеховские персонажи постоянно шепчут и вздыхают, а герои Фейтла стрекотали и пищали, как сверчки за печкой у моего дедушки. Фейтл был коротышкой, даже ниже меня, а Цветл наоборот — огромного роста, с грубым мужским голосом и неуемным честолюбием. Наверное, Фейтл пообещал ей главные роли в своих пьесах. Впрочем, его и самого кормили обещаниями. Режиссер. Германн каждый год уверял, что поставит какой — нибудь его шедевр, а деньги на постановку должен был дать один театральный меценат. В общем, это был порочный круг обещаний, которые никто не выполнял. Этот меценат оказался мошенником и банкротом. Забыл, как его звали. Память играет со мной в прятки. Когда она мне нужна, — ее нет, а когда я хотел бы от нее отдохнуть, она тут как тут со всякими дурацкими подробностями, особенно ночью, когда не спится.
Так о чем я говорил? Да, о том, что все мы превратились в бегунов на дальнюю дистанцию. Цветл тоже бежала с нами, хотя женщин в этой толпе было не так уж много. Фейтл тащил чемодан, набитый рукописями, а Цветл — гигантскую коробку с платьями и корзину с едой. Она бежала и ела. Целые палки колбасы, швейцарский сыр, сардины, селедку. Она бежала быстро — у нее были длинные ноги, и несчастный недотепа Фейтл никак не мог за ней угнаться. Он пищал, чтобы она его подождала, но Цветл делала вид, что не слышит. Надо было спешить — в любой момент могли налететь немецкие самолеты и разбомбить нас всех к чертовой бабушке.
Вначале почти все были увешаны сумками и чемоданами, но вскоре люди стали избавляться от лишнего груза. Вся дорога была усыпана свертками, корзинами, мешками, сумками. Мне рассказывали, что, когда Фейтл понял, что с таким тяжелым чемоданом далеко не убежишь, он остановился и начал делить свои пьесы на те, что обязательно нужно сохранить, и остальные, которые можно выкинуть. Это было бы ужасно смешно, если бы, в сущности, не было так трагично: представьте себе состояние автора, вынужденного на бегу решать, какое из его творений самое гениальное. В конце концов он оставил всего одну пьесу — разобрал ее на листочки и рассовал их по карманам. Потом крестьяне из окрестных деревень собирали добычу, но рукописи Фейтла, разумеется, так и остались лежать в пыли.
Теперь слушайте, что было дальше. С нами бежал один литературный деятель, с позволения сказать, поэт. Он стал заметной фигурой на литературном горизонте уже после вашего отъезда в Америку. Бенце Цотлмахер, здоровенный, неотесанный детина с физиономией боксера и копной жестких волос, вечно торчащих во все стороны, как проволока. В конце тридцатых в Писательском клубе часто устраивали вечера. И в публике, и среди выступавших преобладали так называемые прогрессисты. Всем известно, что в Польше было очень немного евреев-пролетариев, а евреев-крестьян не было вовсе. Но у этих рифмоплетов выходило, что все три миллиона польских евреев либо стоят у станка на заводах, либо пашут. Эти горе-писаки предсказывали неизбежную революцию и диктатуру пролетариата. За пару лет до начала войны еще появились троцкисты. Троцкисты ненавидели сталинистов, сталинисты троцкистов. Во время публичных дебатов они обзывали друг друга фашистами, врагами народа, провокаторами, империалистами. Угрожали друг другу, что, когда массы наконец поднимутся, все предатели будут висеть на фонарях. Сталинисты повесят троцкистов, троцкисты — сталинистов, и те и другие «общих врагов: правых сионистов «Поалей Цион», левых сионистов «Поалей Цион», просто сионистов и, конечно, всех религиозных евреев. Я помню, как президент Еврейского клуба доктор Готтлейб заметил как-то: «Откуда они возьмут в Варшаве столько фонарей?»
Бенце сперва был сталинистом, потом сделался троцкистом. Одной поэзии ему было мало. У него были огромные кулаки, и, когда на его выступлениях сталинисты позволяли себе неодобрительные выкрики в его адрес, он спрыгивал со сцены и раздавал им затрещины. Ему самому тоже доставалось, и он частенько ходил с забинтованной головой. Однажды я из любопытства пошел на его чтение — сплошные банальности и штампы! В день нашего массового исхода из Варшавы выяснилось, что Бенце Цотлмахер бегает лучше всех. И заметьте, на спине у него было два огромных рюкзака, а в каждой руке — по гигантскому чемодану. Похоже, он заранее подготовился к испытаниям. Но существовала одна проблема, и Бенце отлично ее осознавал: он просчитался — ведь мы бежали в ту часть Польши, которая принадлежала России, то есть Сталину. Белосток, конечный пункт нашего «марш-броска», был прямо-таки наводнен русскими. Варшавские сталинисты держались особняком, явно рассчитывая захватить власть сразу же после перехода границы. Кто-то сказал, что у Бенце больше шансов выжить в оккупированной нацистами Варшаве, чем в Белостоке среди своих бывших товарищей.