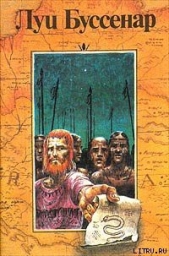Город и псы

Город и псы читать книгу онлайн
Марио Варгас Льоса (род. в 1936 г.) – известнейший перуанский писатель, один из наиболее ярких представителей латиноамериканской прозы. В литературе Латинской Америки его имя стоит рядом с такими классиками XX века, как Маркес, Кортасар и Борхес.
Действие романа «Город и псы» разворачивается в стенах военного училища, куда родители отдают своих подростков-детей для «исправления», чтобы из них «сделали мужчин». На самом же деле здесь царят жестокость, унижение и подлость; здесь беспощадно калечат юные души кадетов. В итоге грань между чудовищными и нормальными становится все тоньше и тоньше.
Любовь и предательство, доброта и жестокость, боль, одиночество, отчаяние и надежда – на таких контрастах построил автор свое произведение, которое читается от начала до конца на одном дыхании.
Роман в 1962 году получил испанскую премию «Библиотека Бреве».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Это он тебе оставил, – сказала мать с порога. И вздохнула: – Я приняла. Бедный мой мальчик, не страдать же тебе из-за меня!
Он обнял ее, поднял, покружил по комнате, крикнул: «Все будет хорошо, мамочка, я для тебя все сделаю!» Она блаженно улыбалась и повторяла: «Нам никто не нужен». Целуя ее и обнимая, он попросил разрешения выйти.
– На минутку, – говорил он. – Подышать немножко.
Она нахмурилась, но пустила. Он снова повязал галстук, надел пиджак, причесался и вышел. Мать крикнула ему из окна:
– Не забудь перед сном помолиться!
Это Вальяно сообщил им ее прозвище. Как-то ночью, в воскресенье, когда кадеты стаскивали выходную форму и извлекали из кепи пачки тайком пронесенных сигарет, Вальяно возвысил голос и хрипло рассказал им про бабу из четвертого квартала Уатики [11]. Его бычьи глаза вращались, как металлический шарик в магнитном поле. Он захлебывался от восторга.
– Заткнись, чучело, – сказал Ягуар. – Надоел.
Но тот говорил и говорил, прибирая постель. Кава спросил его с койки:
– Как, ты сказал, ее зовут?
– Золотые Ножки.
– Наверно, новенькая, – сказал Арроспиде. – Я там у них всех знаю, а такой не помню.
На следующее воскресенье Кава, Ягуар и Арроспиде уже сами рассказывали о ней, смеясь и подталкивая друг друга. «Говорил я! – торжествовал Вальяно. – Всегда меня слушайтесь». Еще через неделю ее знало полвзвода, и слова «Золотые Ножки» звучали для Альберто привычно, как знакомая мелодия. Многозначительные, хоть и не слишком конкретные, намеки разжигали его воображение. Во сне это прозвище обрастало странными, противоречивыми, соблазнительными деталями, а женщина была все такая же – и всегда другая, она исчезала, когда он хотел ее коснуться или открыть ее лицо, и от этого он разгорался еще сильней или растворялся в безграничной нежности, и тогда ему казалось, что он не выдержит, умрет от нетерпения.
Он сам говорил о ней чуть ли не больше других. Никто и не думал, что он знает понаслышке о кварталах Уатики – так много рассказывал он забавных случаев и мнимых приключений. Но от этого ему не было легче; чем больше расписывал он свои любовные успехи, чем больше ржали приятели, тем сильнее он боялся, что никогда ему не быть с женщиной наяву, а не во сне; и он умолкал и клялся себе, что в следующую же субботу отправится туда, к ней, хотя бы ради этого пришлось украсть двадцать солей или даже подцепить сифон.
Он вышел на пересечении улицы 28 Июля и улицы Уилсона. «Мне пятнадцать, – думал он. – Но я выгляжу старше. Беспокоиться нечего». Он закурил, затянулся два раза, бросил сигарету. Народу на проспекте было еще больше. Он пересек трамвайную линию и попал в густую толпу рабочих и служащих, гладковолосых метисов, приплясывающих на ходу, медных индейцев, улыбчивых чоло. Он понял, что площадь Победы – рядом, потому что почти осязаемо пахло креольской стряпней, шкварками, колбасой, водкой, похмельем, потом и пивом.
Он пересек огромную, шумную площадь Победы, увидел каменного инка, указующего на запад, и вспомнил, как Вальяно говорил: «Ну и похабник этот Манко Капак [12] – дорогу в бордель показывает». Он медленно продвигался в толпе, задыхаясь от вони. В слабом свете редких фонарей смутно вырисовывались профили мужчин, которые проходили, косясь в сторону одинаковых домишек. На углу проспекта и Уатики, в заведении одного японца, ругались на все голоса. Мужчины и женщины яростно бранились у заставленного бутылками стола. Он постоял на углу, засунув руки в карманы и вглядываясь в лица; у одних глаза были остекленелые, у других как будто веселые.
Он обдернул пиджак и вступил в четвертый, самый злачный квартал. На лице его блуждала презрительная полуулыбка, а в глазах была тоска. Пройти предстояло несколько метров – он помнил твердо, что Золотые Ножки обитает во втором от угла доме. В дверях стояли друг за другом трое. Альберто заглянул в окно. Крохотный деревянный тамбур, освещенный красным светом стул, выцветшее фото на стене, скамеечка у самого окна. «Низенькая», – разочарованно подумал он. Кто-то тронул его за плечо.
– Эй, парень, – сказал кто-то, дыша луковой вонью. – Ты что, слепой или чересчур шустрый?
Фонари освещали мостовую, красный свет был слабым, и Альберто не мог разглядеть, кто с ним говорит. Только сейчас он понял, что тут, на Уатике, люди лепились к стенам – где потемней,– а тротуар был пуст.
– Ну? – сказал мужчина. – Как порешили?
– Что вам нужно? – спросил Альберто.
– Ни черта мне не нужно, – сказал мужчина. – Только я тоже не дурак. Мне пальца в рот не клади, ясно?
– Хорошо, – сказал Альберто. – А в чем дело?
– Становись в очередь. Надо совесть иметь.
– Ладно, – сказал Альберто. – Успокойтесь.
Он отошел от окна – мужчина его не удерживал, – встал в очередь и, привалясь к стене, выкурил одну за другой четыре сигареты. Тот, что стоял перед ним, вошел, вскоре вышел, бормоча, что жизнь вздорожала, и удалился во тьму. Женский голос сказал из-за двери:
– Заходи.
Он прошел через пустой тамбур. В комнату вела застекленная дверь. «Я уже не боюсь. Я взрослый». Он толкнул дверь. Комната оказалась не больше тамбура. Свет был тоже красный, но резче, грубее; у Альберто зарябило в глазах – перед ним замелькали пятна, покрупней и поменьше, и в этой пестрой мешанине он не сразу различил женщину в кровати, а различив, увидел не лицо, а только темный рисунок на капоте – не то звери, не то цветы. Он успокоился. Женщина села. Она и правда была низенькая, ноги едва доставали до полу. Волосы у нее были спутанные, рыжие, у корней – черные. Размалеванное лицо улыбалось. Он опустил голову и увидел двух перламутровых рыб, живых, налитых, нежных («Так бы и съел без масла», – говорил Вальяно). Ноги были как будто от другого тела, они совсем не подходили ни к вялому рту, ни к мертвым глазам, тупо глядевшим на него.
– Из военного училища? – сказала она.
– Да.
– Первый взвод, пятый курс?
– Да, – повторил Альберто. Она хихикнула.
– Сегодня ты восьмой,– сказала она.– А на той неделе я и счет потеряла. Пристрастились ваши ко мне…
– Я в первый раз,– сказал, краснея, Альберто.– Я… Она хихикнула громче.
– Я не суеверная, – сказала она. – Даром не работаю. Да и стара я для сказок. Каждый день младенчики ходят, ах ты, сейчас расчувствуюсь.
– Я не к тому, – сказал Альберто. – У меня деньги есть.
– Так-то лучше, – сказала она. – Положи на стол. И пошевеливайся, кадетик.
Альберто раздевался медленно, аккуратно складывая вещи. Она безучастно смотрела на него. Когда он разделся, она неохотно легла на спину и распахнула халат. Теперь она была голая, но в бюстгальтере – розовом, обвисшем, сильно открытом. «Она и вправду блондинка», – подумал Альберто и лег рядом с ней…
Под часами на площади Сан-Мартина – конечной остановке трамвая, который идет в Кальяо,– колышется море белых кепи. Перед отелем «Боливар» и «Цыганским баром» газетчики, шоферы, бездельники и полицейские смотрят, как со всех сторон к часам, на остановку, прибывают кадеты: одни – издалека, другие – из здешних заведений. Они загораживают проезд, огрызаются на шоферов, пристают к женщинам, решившимся в этот час выйти на улицу, болтаются без дела, ругаются, острят. Подходит трамвай – и тут же он весь увешан гроздьями кадетов; штатские пассажиры благоразумно жмутся в хвосте. Ребята с третьего чертыхаются, – не успеешь занести на подножку ногу, как тебя хватают за шиворот: «Сначала – кадеты, потом – псы».
– Пол-одиннадцатого, – говорит Вальяно. – Успеть бы к последнему…
– Десять часов двадцать минут, – отвечает Арроспиде. – Успеем.
Трамвай был набит; они стояли. По воскресеньям грузовики из училища приезжали за кадетами в Бельявисту.
– Смотри, – сказал Вальяно. – Два песика. Обнялись, чтоб нашивок не видели. Ловкачи…
– Прошу прощенья, – сказал Арроспиде, протискиваясь к бедным псам. Завидев его, они принялись беседовать. Трамвай миновал площадь Второго мая и плутал среди невидимых домишек.