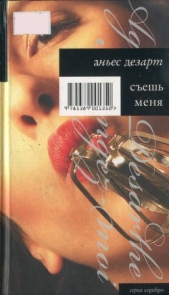Мы еще потанцуем

Мы еще потанцуем читать книгу онлайн
В романе «Мы еще потанцуем» четыре главных героя. Точнее, героини. Четыре подруги. Они выросли вместе и были неразлучны. Шли по жизни каждая своим путем, искали себя, строили свое счастье, но свято хранили верность детской дружбе. И была любовь — единственная, ни на что не похожая, прошедшая через измены и ревность, победившая искусы пошлости и богатства. Но однажды их пути связались в страшный узел предательства и боли. И настал момент истины.
Как найти силы выйти из уютного детского мирка и стать взрослым, не потеряв себя? Что такое дар жить на пределе сил? Эти вопросы ставит перед читателями новый роман Катрин Панколь. Ответ каждый должен найти сам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они ушли вместе. Не проронив ни слова. Молча. Только он, она и большая сумка, болтавшаяся между ними. В Монруж вернулись пешком. Она едва ковыляла на своих танкетках. Ему было наплевать. Он вел ее домой.
Но было слишком поздно.
Между ними поселился страх, страх перед другим, страх, что другой предаст. Напрасно они ласкали друг друга, спали в обнимку, напрасно она стонала от наслаждения, когда он касался ее груди или проводил рукой между ног, напрасно она спрашивала его: «Почему? Почему так сильно, так ярко? Почему даже сильнее, чем тогда?». Он не отвечал. Прижимал ее к себе и шептал: «Молчи… молчи». Он не хотел снова утонуть в словах — и знал почему. Знал, что боль удесятеряет наслаждение. Боль от того, что они расстались, от того, что она предала, от того, что четыре года, целых четыре года они жили, не видя друг друга, не слыша друг друга, не касаясь друг друга, не дыша друг другом. Они несли в себе эту боль, как открытую рану, и стоило им коснуться друг друга, боль оживала.
Он больше не хотел говорить. Не хотел объяснять. Осторожничал. И тогда она решила никогда не оставлять его одного. Ни на минуту. Часами смотрела, как он рисует — тихая, послушная. Нежная. Такая нежная… Ему не нравился ее покорный взгляд. Она не нравилась ему такая, униженная, просящая. Это было неестественно. Раньше в ней всегда был вызов, а теперь изо всех пор сочился страх. Страх, что первородный грех вернется и все полетит к черту. К тому и шло: она напоминала ему о своем грехе. Несла на плечах его тяжесть. Он представлял жирные пальцы отца на ее белой коже, кончик его жирного пальца, ласкающий ее сосок, ее живот, губы отца на ее затылке — и ему хотелось сделать ей больно, унизить ее.
Когда воспоминание становилось неотвязным, он сбегал. И чтобы ей было больней, сбегал с другой. Всюду появлялся с этой другой. Выбирал самую красивую девушку, киноактрису, которую каждый мечтал трахнуть, самую известную топ-модель. Или валялся на потасканной груди Дорогуши. Репутация гениального живописца притягивала к нему женщин. Оставалось только нагибаться и подбирать их. Он швырял в лицо Кларе пригоршни страдания. Чтобы не подумала, что может вновь завладеть им, что загладила свою вину. Он не мог простить. Это было сильнее него. К тому же их любовь и прежде состояла из одних уходов и возвращений. Она подала пример, и безумный маятник уже не остановить.
Но сегодня остановить его придется. Надо, чтобы она избавила его от страха. Надо поговорить с ней, вверить ей свою судьбу. Надо, чтобы удача, настоящая удача, их шанс быть вдвоем, всегда рядом, вернулась и освободила его.
Он смотрит на часы. Облизывает пересохшие губы.
Он поднимается на лифте. Звонит и утыкается лбом в дверной косяк. У него нет больше сил.
Дворецкий только что принес ему бокал хорошо охлажденного «Уайлд терки» [36]. Дэвид Тайм расслабляется, держа в руке стакан с позвякивающими льдинками. Упоительное ощущение, особенно потому, что оно — последнее звено в целой цепочке других упоительных действий. После обеда он полежал в ванне с романом Эдит Уортон [37], потом надел старую куртку небесно-голубого кашемира, сшитую его английским портным с Фланниган-стрит; там одевался и отец, и дед, и прадед. Там записаны все его мерки, начиная с двенадцати лет. Он побродил по парижским улочкам со своим бассетом Леоном, поискал одну редкую книжку: заходил к знакомым букинистам, пролистал несколько экземпляров, изучая обложку, год издания, состояние и оттенок пожелтевшей бумаги, легкую патину старины, округлый кожаный корешок — и так и не решился. Он провел приятнейшие моменты в обществе людей, встречающихся теперь все реже и реже — тех, кто дает вам время оценить, посмаковать, подумать, не понукая, не рассыпаясь в комментариях и не сообщая сразу цену. Все куда-то спешат в нынешнем мире! — вздыхает он, едва заметным кивком поблагодарив дворецкого, и тот сразу удаляется, оставив его наедине с концертом Рахманинова. Люсиль, его жена, вечно куда-то мчится как сумасшедшая. Сегодня утром прилетела из Нью-Йорка и тут же унеслась в свой фонд, «прояснить ситуацию». Что за дурацкое выражение! Он закуривает сигару, поудобнее усаживается в кресле и думает о Люсиль. Скорость! И честолюбие… Во что бы то ни стало оставить след на Земле! Что за нелепая идея! Как будто мы живем на Земле для того, чтобы менять порядок вещей. Как будто нас здесь только и ждали, нас, жалких козявок — давайте, влияйте на судьбы мира! Люсиль его умиляет, но он не может ее понять. Впрочем, это ему в ней и нравится. Ну все, хватит… довольно самокопания, друг мой! Подумать — уже немного умереть. Qué lastima! [38]
Дэвид Тайм осторожно извлекает длинную спичку из лежащего на столе коробка в бархатном чехле. Сигара требует времени — чтобы ее подготовить, чтобы выкурить и получить наслаждение. Все меньше остается людей, готовых целиком отдаться этому времяпрепровождению, думает он, устраивая затылок на подголовнике кресла эпохи Людовика XV, что досталось ему от прапрабабки Маргарет, герцогини Уортской. Кружева шуршат под его головой, он ощущает их, ощущает, как весь груз прошлого поскрипывает в привычном приятном ритме кресла-качалки. Нувориш потащил бы кресло на реставрацию, но ему доставляет удовольствие этот налет прошлого. Он представляет себе, как грациозная головка Маргарет клонится под тяжестью поцелуя… Взгляд его пробегает по картинам, висящим в курительной, и на губах появляется довольная улыбка. Какие богатства дарит прошлое! Какое изящество в этих полотнах! Какая радость — любоваться ими дома, не выстаивая очереди в этих пошлых музеях, где толпятся туристы в сандалиях на босу ногу да бабульки в сопровождении гидов! Бассет, заметив, что красивые тонкие губы хозяина презрительно скривились, прыгает к нему на колени. Дэвид Тайм тихонько ворчит: «Ну! Ну! Леон!» — потом свободной рукой гладит собаку по голове, терпеливо ждет, пока та устраивается поудобнее на его коленях. Оба, хозяин и пес, удовлетворенно вздыхают.
Надо будет вечером поговорить с Люсиль, думает Дэвид Тайм, осторожно затягиваясь сигарой и положив руку на стакан, стоящий на столике у кресла. «Надо с ней поговорить, — повторяет он вслух, и Леон поднимает голову. — Понимаешь, Леон, мне нужен наследник. Она должна пойти навстречу. Мы женаты уже восемь лет! Вполне приличный срок. Я бы с удовольствием любовался маленькими Таймами, скачущими по дому под бдительным оком барышни-гувернантки в форменном платье. Что скажешь?» Леон смотрит на хозяина с безграничной любовью в глазах и вновь кладет голову на лапы. «Должно появиться на свет новое поколение Таймов, и, по-моему, сейчас самое время…» Младший брат Дэвида, Эдуардо, недавно сообщил, что его жена беременна. У него уже три дочери, и теперь он ждет результатов исследования околоплодной жидкости, чтобы узнать пол ребенка. Если мальчик, они его оставят, если девочка, жене придется сделать аборт. Бедняга Эдуардо! Живет в окружении одних женщин и с грустью смотрит на красный «феррари», который купил к рождению первенца, в полной уверенности, что родится мальчик. И почему мы все убеждены, что с первого раза непременно получится мальчик? Наверное, из уважения к роду, из чувства долга перед предками. Завтра он едет на охоту в Шотландию, но на обратном пути сделает остановку в Лондоне и навестит брата.
Серебряные ходики, принадлежавшие русскому великому князю, официальному любовнику прабабушки Дэвида, бьют восемь. Дэвид с удивлением смотрит на циферблат. Уже восемь часов! А ее до сих пор нет дома! Нет, решительно нужно с ней сегодня поговорить, думает Дэвид Тайм, чуть сильнее сжимая в пальцах стакан. Тем более, вспоминает он, дворецкий упоминал какие-то странные телефонные звонки с бросанием трубки. В чем там дело?
Или в ком? Можно было и представиться, это элементарная вежливость. В наши дни вежливость считается пустой тратой времени. А время — такая ценность для тех, кто хочет заниматься делом и делать деньги. Или заниматься любовью. Что за ужасное выражение, морщится он, поперхнувшись бурбоном. Он кашляет и, резко выпрямившись, поглаживает ладонью бархатный лацкан домашней куртки. Насколько сладостнее воображать, отдаваться неясному волнению при виде приоткрывшейся лодыжки или родинки в вырезе декольте! «О, Леон!» — стонет он, вновь откидываясь на спинку кресла. Ему вспоминается вчерашний обед с прелестной Анаис де Пуртале, она буквально на днях развелась с каким-то подлым америкашкой, делягой с Уолл-Стрит. На ней была белая блузка, а в глубоком вырезе виднелось что-то вроде мушки. Нежная белизна кожи и великолепная черная мушка. Он мечтал о ней весь вечер, пока маникюрша из «Ритца» полировала ему ногти. Ему было достаточно: остальное дорисовало воображение. «Вот что такое настоящее желание, Леон: во-о-бра-жать, а не утолять свои звериные инстинкты! Или утолять их позже, гораздо позже, в качестве запоздалого финала, без которого вполне можно обойтись…» Дэвид Тайм не соблазняет женщин, он позволяет соблазнять себя. Женщины берут его, бросают и возвращаются, так и не ощутив ни единого встречного порыва. Но он всегда умел придать всем этим пошлым, по его мнению, маневрам великолепную легкость и изящество. Ни упреков, ни колкостей, неподражаемо ровный тон и ровное настроение. Так было с тремя его бывшими женами, Беатрисой, Корнелией и Гретой. Тремя прелестными дуновениями ветерка в его жизни. Первые две были слишком красивы, слишком утонченны.