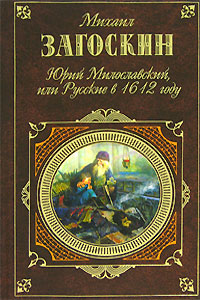Возлюбленная тень (сборник)

Возлюбленная тень (сборник) читать книгу онлайн
Юрий Милославский – прозаик, поэт, историк литературы. С 1973 года в эмиграции, двадцать лет не издавался в России.Для истинных ценителей русской словесности эта книга – долгожданный подарок. В сборник вошли роман «Укрепленные города», вызвавший острую идеологическую полемику, хотя сам автор утверждал, что это прежде всего «лав стори», повесть «Лифт», а также цикл рассказов «Лирический тенор» – своего рода классика жанра. «Словно не пером написано, а вырезано бритвой» – так охарактеризовал прозу Ю. Милославского Иосиф Бродский.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таким-то старым служивым и мог теперь почесться генерал Пономарев.
Проект отделки участка вскоре осуществился, но наиболее примечательною растительностью сада стали не деревья, а скорее трава: вокруг укрепленных на террасах алебастровых вазонов с пеларгониями, по соседству с привычною палестинскою зеленью, вроде мелкого терновника, лаванды и цикория, волною пробивались кашки, лютики и даже клевер, увядающие дотла в четверть отведенного им срока: эти семена-пришельцы были занесены сюда на подошвах бесчисленных пилигримов – и принялись.
До IV Палестинской войны птицы в Русской Гефсимании заводили пение по квадратам.
В тот краткий для не знающей ни рассветов, ни закатов Палестины, преддневной зазор – на конечной доле петлоглашения, в самом начале четвертой стражи – первым вступало в распев пространство над монастырским кладбищем; обширная каменная паперть и самый храм выпадали из хора, но зато снизу вверх по склону Елеонской горы квадраты вспыхивали один за другим: от домика игуменьи до высоких, о двух щитах, ворот Гефсиманской обители. Захватывая край обрыва, квадраты переходили через переулок и достигали базилики «Отче Мой» у Вифанского тракта; тогда как в саду песенное движение шло от дерева к дереву, вглубь отгороженных цементированною стеною владений Императорского Православного Палестинского Общества. При этом кипарисы и сосны казались еще совершенно черны, тогда как изнанка масличной листвы отражала неопределенный, но явственный свет.
В последние годы птичьи соединения рассредоточились и, наконец, совершенно исчезли; но, опустев, древние эти места ненадолго удержались в своей немоте – и вскоре начинали скрежетать по-вороньи; ничто же певчее больше не подавало здесь голоса.
Иеромонах отец Феофан, рассказывая генералу Пономареву о гефсиманских соловьиных стаях, – а допустимо ли исчислять соловьев стаями, словно каких-нибудь чижиков-пыжиков? – пошучивал про себя Николай Федорович, – отец Феофан не без труда возводил над подлокотниками инвалидных кресел крупные ледяные кисти тончайших рук, теряющих широкие рукава греческой рясы.
Отец Феофан – в мiру полковник Сергей Степанович Филиппов, – получивший в 1918 году от шаха персидского золотую саблю и звание генерал-лейтенанта (которым, впрочем, никогда не подписывался), поселился в Гефсиманском саду много прежде Николая Федоровича; принял постриг и почти тотчас же – сан.
Обезножев, он сильно страдал от зависимости и унижений, что, сами того не понимая, причиняли ему раздражительные неуклюжие инокини: по большей части дочери здешних крестьян, приведенные в русскую обитель волею домашних обстоятельств.
Но хуже всего приходилось отцу иеромонаху от жестокостей Мнемозины.
То не была, казалось, естественная в его положении память молодости и страсти; таковые воспоминания в нем, человеке вообще стеснительном, прихваченном изнутри тысячью скоб, оставались настолько тонки, что до ощутимых помыслов не сгущались.
Не досаждал отцу Феофану и многосложный перебор событий, которые близко по времени предстояли исходу его из России; сам он в своей воинской службе был избавлен от серьезных боевых неудач и оттого полагал, что если бы и высшее добровольческое командование действовало на вверенных его попечению плацдармах подобно тому, как он сам управлялся с разбойниками в Персии, все дальнейшее получило бы хороший шанс развернуться иначе.
Филиппов терзался как раз промежуточным отрезком своей длящейся жизни; эти серединные тридцать лет – от прощания с Его Шахским Величеством и до прибытия в новообразованное Хашимитское Королевство, в границах которого тогда находился и Святой Град, – эти тридцать лет ни в каком своем звене ни разу не перекрылись в его воспоминаниях ничем более значимым; их тщету не уравновешивало ни поистине весомое прошлое, ни хоть сколько-нибудь достойное внимания настоящее.
Частью той деликатной политической работы, которую полковник Филиппов занимался сперва в Софии и Белграде, потом – в Париже и, наконец, в Берлине, была журналистика; но лишь частью. А теперь отцу Феофану казалось, будто прежде написанные им брошюры, статьи и произнесенные в закрытых и публичных собраниях речи – каждую ночь дословно, монотонно и громко перечитываются вслух, вновь провозглашаются и вновь обсуждаются, притом что слова, даже признанные наилучшим ответом на злобу дня, уже на вторые сутки звучат и нелепо, и странно. Отец Феофан вздыхал и с некоторою досадою крестился; пытался перебить назойливый этот шум умною молитвою; но и молитву незаметно подминали под себя какие-то выдержки из докладов, прочитанных в Дни непримиримости – и она терялась; он и не замечал даже, как ее уносило прочь.
Помогало только изучение книг, сочиненных другими.
Увечный иеромонах просил отвезти его в монастырскую библиотеку – там сестра Алексия извлекала для него с полок кое-какие из присланных в обитель военных мемуаров и трудов по истории. Первые же страницы этих трудов приводили отца Феофана в ярость, он заносил им на широкие наглые поля: «Ложь!!! (трижды подчеркнуто) февральские предатели, осмелившиеся нарушить присягу, отрекшиеся от подлинных заветов императорской армии, самочинно титулуют себя вождями ими же измышленного белого движения», – а далее карандаш проскальзывал у него между сомлевшими пальцами и упадал на пол.
На литургию отца Феофана прикатывали в креслах в алтарь, но и туда его противники и его единомышленники топотали следом, не ощущая святости богослужения, как прежде не ощущали святости традиций Исторической России; здесь присутствовали отважные, но непоследовательные братья Драгомировы, храбрецы Барбович и Абрамов, зловещие безумцы Скоблин и Туркул, наглый интриган Шатилов и добродушный, но недалекий карьерист Бискупский; последний почему-то всегда припоминался не в мундире, а в штатском пальто и шляпе, прислонясь к штукатурке гулкого берлинского подвала-бомбоубежища. Приходил и главный враг – легендарный штабс-капитан NN; этот, впрочем, был еще жив и одиноко сидел как сыч в ледяной наемной квартирке на самой окраине баварской столицы.
Днем и ночью они вели между собою какой-то невразумительный, беспросветный разговор, от которого полковник Филиппов то и дело впадал в дурнотную, не приносящую отдыха, злокачественную старческую дремоту.
Генерал Пономарев едва ли не с первых же недель по приезде стал избегать отца Феофана, очевидно инстинктивно опасаясь источаемой страдальцем материи постоянного горестного беспокойства.
Николай Федорович относился к тем немногим, кому дается легко понести – снедающее прочих дотла – чувство совершенного разрыва связей между причиною и следствием; между результатом – и предварившими его разнонаправленными усилиями.
Непонятно – кому и неизвестно – каким образом проигранная кампания в сочетании с невозможностью взять реванш, ибо само поле битвы куда-то незаметно исчезло, – обстоятельство, всего ужаснее действующее на воинов и спортсменов; зрелище уверенных и спокойных мерзавцев при боевых орденах – словом, вся эта несправедливость, вся эта от единого дуновения вспыхивающая горючая смесь чудом не добрызнула до генерала Пономарева.
Его память сама по себе отвращалась от вида картин томительных и жестоко непоправимых; его судьба исполнялась последовательно и равномерно, тихо смыкаясь нисходящими слоями, наподобие меда, переливаемого из емкости в емкость.
Однажды вознегодовав, пономаревская душа, надсаженная изобилием омерзительных впечатлений, произнесла «не хочу» – и молодой русский генерал, едва очутившись в Финляндии, женился на охотно перешедшей в православие вдове фламандке, чтобы отправиться с нею в Брюссель.
В Бельгии, легко уклоняясь от встреч с тамошними чинами РОВСа, Николай Федорович сперва преподавал гимназический курс математики, а позже – ведал страховыми операциями в небольшом пароходном агентстве. Перед новою европейскою войною ему представилась возможность вкупиться в торговое товарищество владельцев аптекарских складов.
Таким образом генерал Пономарев исподволь покинул историю, где еще совсем недавно являл собою действующее орудие на знаменитые происшествия. Вертикальный список имен, обязательный к перечислению, сократился на строку, но это пришлось Николаю Федоровичу – все равно; не по демонстративному безразличию, а за подлинною душевною ненадобностью; уже к шестидесяти годам он – тяжелый, с вальяжно склоненным торсом и остроугольным рисунком седых волос, тщательно разобранных на британский пробор и зачесанных к темени, – отзывался на превосходительное обращение шуточным, но обязательным отказом: