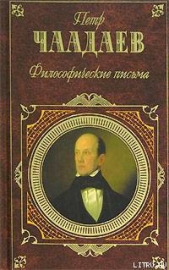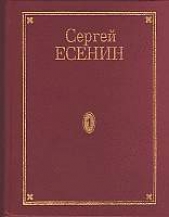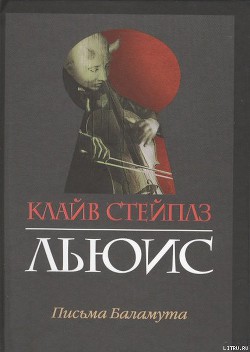Письма спящему брату (сборник)

Письма спящему брату (сборник) читать книгу онлайн
В этот сборник включены три повести современного российского писателя, публициста и ученого Андрея Десницкого. Две из них — «Записки Балабола» и «Письма спящему брату» — продолжают на свой лад «Письма Баламута» К. С. Льюиса, с той разницей, что действие перенесено в современную Россию. Бес-искуситель и та, кто помогает ангелу-хранителю, смотрят на нашу современницу… Третья повесть, «Русский Амстердам», напротив, реалистична — она рассказывает о жизни русского парня, нелегального эмигранта в Амстердаме начала 1990-х годов. Это не автобиография, но в повести описано немало историй, о которых автор узнал от их участников или которым он был очевидцем.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он так посмотрел тогда на меня — ну надо же, целый приват-доцент, такой ужасно взрослый, лет 27-ми, смотрит на соплюшку-гимназистку такими глазами! — и вот видишь, что получилось. Правда, не сразу.
Может быть, ты уснул, потому что некому было тебя встретить? Родители… с ними всё сложно. Я расскажу тебе потом. И вообще, первая встреча получается только с самыми-самыми, и даже не угадаешь с какими. Я бы тоже хотела встречать людей, говорить им что-то светлое и простое, чтобы они не боялись — или, точнее, чтобы они боялись не того, чего привыкли бояться, и совсем не так, как привыкли. Что всё обязательно будет хорошо, только не надо засыпать, не надо отчаиваться, не надо…
Я бы рассказала о Нем. Но не все хотят слушать, я знаю, и знаю, что ты вряд ли захочешь так сразу, поэтому молчу. Многие ведь хотят оставаться без Него и после перехода. Я лучше буду пока говорить тебе о нас с Максимычем.
Только знаешь, я пока не могу никого встречать. Это было так странно — перейти из хлопот и очередей, из неустроенного нашего коммунального быта, из всего, что окружало меня, в мир, где не надо беспокоиться ни о чем из прежнего. Такими странными и смешными показались все эти собесы, пенсии, магазины, поликлиники…
Это такое счастье — увидеть любимых! Жаль, что пока не всех удалось повидать, кого хотелось, да и нужно было повидать — это ведь тоже труд, и он дается не всем и не сразу. А Максимыч… Знаешь, я всегда знала, что он особенный, но когда я увидела это… Ты не думай, он не зазнался, тут вообще не зазнаются. Великий — он самый внимательный к мелкому, иначе не получается. Я боялась, что его тут на части разорвут, а оказалось, что искусство быть великим — это искусство быть сразу со многими, и прежде всего с Ним, и никогда не терять никого. Это трудно, я только-только немножечко начала этому учиться.
Ладно, я не буду о своем. Я лучше вспомню что-нибудь очень светлое и яркое из нашего с тобой детства. Это было, наверное, первое лето, когда мы снимали дачу, и еще даже не лето, поздняя весна, холодная в том году. Мне было четыре, тебе шесть, мир был таким огромным, и ты показывал мне шмеля. Он ползал по старому, корявому пню: вялый, сонный, наверное, только что появился на свет. Солнце едва проглядывало в тот день из-за облаков, было еще прохладно, и он, наверное, не мог согреться, чтобы улететь. Я так боялась, что он меня укусит, а ты важно рассуждал о шмелях, о том, что они ни за что не кусаются, если их не обижать, такие они добрые. И питаются цветочным соком, так ты тогда сказал.
А потом нянька позвала нас к чаю, и шмель вдруг сорвался с пня и полетел, тяжело так, медленно, и я вдруг так остро ощутила, что больше никогда-никогда не увижу этого шмеля. Я заплакала, и ты решил, что я испугалась, а я просто впервые в жизни узнала потерю живого: вот встретилось оно, и исчезло, и его больше не будет. Потом мы пили чай с медовыми пряниками, ты наворачивал за обе щеки, а я беспокоилась за шмеля: где же он возьмет цветочный сок, если цветов еще нет? А добрая нянька тут же стала мне рассказывать, что он полетит на юг, в теплые страны, где цветет много-много цветов, и будет жить там долго и счастливо. И вообще, у нас только что настал двадцатый век, сказал ты, а это должен быть очень-очень счастливый век, так что и со шмелем будет всё хорошо. А я поверила.
Помнишь ли, Миша? Я и сейчас невольно оглянулась — может быть, здесь этот шмель, может быть, он согреет своим жужжанием твой долгий сон. А пока я просто буду писать тебе письма — как жаль, что это не пришло мне в голову прежде!
Обнимаю тебя,
Твоя Маша.
2
Здравствуй, Мишенька!
У меня такие удивительные новости! Но прежде, чем расскажу их тебе, я вот еще о чем подумала… Наверное, зря я не сказала тебе тогда, каким трудным был для меня этот переход. Он ни для кого не бывает легким, разве что для удивительного нашего Максимыча. Но, сам посуди, когда умираешь от истощения и побоев в промерзлом бараке, среди ненависти, безразличия и грязи, всё дальнейшее будет уже облегчением. Я немного даже завидую ему: я умирала в больнице, на чистой простыне (ну, бывали и грязнее), за мной все-таки ухаживали… Видишь, мне не дано было такого перехода, как ему, значит, мне это было не по силам. Или не нужно — но мне-то кажется, что так было бы легче.
Зато он встретил меня, и провел, чуть ли не за руку, долго и терпеливо, через всё, что было по пути. Некоторые его тут называют «могучим воином», а меня смущают эти слова. Это вы, мужчины, привыкли говорить о войнах. Помнишь (а может быть, тебе сейчас это снится?) как мы провожали тебя на фронт? Сколько народу было тогда в родительской нашей квартире, и все пили, и пели, и о чем-то рассуждали, и видно было, как не терпелось мужчинам прикоснуться к этому великому для них слову: «фронт». А ты был в новенькой, с иголочки, офицерской форме, только после выпуска, и то и дело оглядывался в зеркала на свои погоны. Если совсем честно, форма тогда не очень ловко на тебе сидела.
А помнишь, как я, глупая девчонка, вздумала дразниться: как это ты, человек таких прогрессивных взглядов, будешь теперь «ваше благородие»? И ты долго, с таким жаром, стал говорить мне о судьбах славянства, о пангерманской угрозе, о том, как должны отойти на второй план все наши политические пристрастия, и о том, как в огне войны родится новая, счастливая, демократическая Россия… Помнишь? А я ведь только шутила и дразнилась, мне просто было досадно, что я так долго не увижу своего родного брата, что его теперь поглотила какая-то огромная и чужая всем нам зверюга, которую почему-то звали словом «фронт», и о которой писал наш Поэт: «с галицийских кровавых полей». Вот с тех пор мне не хочется говорить о войне.
Мне проще говорить не о войне, а о саде, где растет столько всего (не случайно и Он постоянно показывал ученикам то смоковницу, то виноград, то еще что-нибудь). Рост отнимает много сил, ему еще нужно состояться — вот на то и есть садовники. Можно, конечно, сказать, что они воюют с сорняками и вредителями, но мне проще назвать это по-другому: они помогают нам расти. Вот и Максимыч такой, и даже странно называть его моим земным мужем.
И я тоже была зернышком в этом саду, в черной, неуютной почве. Он помогал мне прорасти, это было трудно, действительно трудно — ты словно раздвигаешь эти глыбы, наваленные на тебя твоим собственным прошлым. Да что прошлым: твоим собственным «я»; и вот оно мучается, кричит, требует своего и не хочет ни с чем расставаться, начиная с этого больного, старого тела — так зерну надо перестать быть зерном, скинуть собственную твердую оболочку, чтобы нежный и хрупкий росток смог пробиться к свету.
Ты видел столько смертей, Миша, на двух мировых войнах. Скажи, это правда, что молодые умирают легко? А в старости цепляешься за это никчемное, уставшее тело, и точно так же — за привычки своей души, заскорузлой, закопченной. Трудно, я знаю, поэтому некоторые уходят от этого труда — кто в сон, как ты, а кто…
Знаешь, Миша, а ведь мамы нет с нами. До последнего Дня ничей выбор еще не окончателен, но мамы сейчас с нами нет. Для меня пока что совершенно закрыт ее выбор: она его сделала, и я не знаю, почему он был именно таким: не быть с нами. Ты помнишь, какой потерянной она была тогда, вечером, когда мы провожали тебя в армию? Мне трудно и больно вспоминать ее, и как может быть иначе… Может быть, когда настанет День, всё станет ясным и простым, боль растает или сменится радостью, но пока мы только готовимся к этому Дню и ничего не знаем наверняка. Что-то сломалось в ней, что-то умерло еще тогда, на земле, задолго до тела, и вот — ее нет с нами. Может быть, она вернется. Может быть.
А ты вот спишь. Ты с нами, тебе только надо очнуться, только захотеть расти. Пусть тебе сниться что-нибудь светлое и трудное, потому что именно таким и будет твой рост.
Отец зато с нами. Он так изменился, его и не узнаешь… Но что я говорю, ты сам увидишь, когда проснешься! Мы нечасто встречаемся с ним, но столько, столько пришлось нам переговорить и перемолчать вместе, ты даже не представляешь. И вообще, здесь встречается столько людей, которых никак не ожидаешь увидеть. Например, здесь Никонов — и знаешь, мне было легко встретиться с ним. Мы знали, что стояло между нами в прошлой жизни, и потому мы смогли найти те слова, которые примирили нас. Ты, наверное, не захочешь сначала видеться с ним, но… Знаешь, мне кажется, что мама именно потому не с нами, что она опасалась встретить здесь людей, с которыми не хотела бы встречаться. Это нередко бывает, что люди замирают на пороге и поворачивают назад только потому, что компания кажется им неправильной. Мне не хотелось бы так думать про нашу маму, может быть, у нее было что-то другое, я просто не знаю.