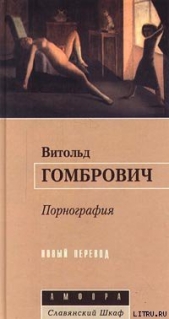Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» всемирно известного прозаика и драматурга Витольда Гомбровича (1904–1969) — выдающееся произведение польской литературы XX века. Гомбрович — и автор, и герой «Дневника»: он сражается со своими личными проблемами как с проблемами мировыми; он — философствующее Ego, определяющее свое место среди других «я»; он — погружённое в мир вещей физическое бытие, терпящее боль, снедаемое страстями.
Как сохранить в себе творца, подобие Божие, избежав плена форм, заготовленных обществом? Как остаться самим собой в ситуации принуждения к служению «принципам» (верам, царям, отечествам, житейским истинам)?
«Дневник» В. Гомбровича — настольная книга европейского интеллигента. Вот и в России, во времена самых крутых перемен, даже небольшие отрывки из него были востребованы литературными журналами как некий фермент, придающий ускорение мысли.
Это первое издание «Дневника» на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С ними тремя — Грасс, Йонсон, Вайсс — я время от времени виделся, но наши встречи сводились на нет трудностями лингвистического характера или присутствием третьих лиц. Я много раз говорил себе, что должен поговорить с Вайссом, должен кое-что узнать у него, что он мне расскажет… Что касается Уве Йонсона, то это был Север. Причем такой нордический, что я не раз и не два решал, что наконец-то надо завести с ним разговор более… Ничего не получалось. Мы были замкнуты друг для друга, заранее понятно, что ничего, совсем ничего, и лучшее, что можно сделать, это чтобы один другого оставил в покое. Вроде как кони, пасущиеся на лугу. Но в то же время как существа хищные, агрессивные, находящиеся в состоянии экспансии, готовые сожрать друг друга при первом же удобном случае. Как-то раз Уве Йонсон случайно столкнулся со мной в ресторане напротив Академии Искусств. Подошел ко мне и с северной смущенностью что-то пробормотал, что, как я догадался, было комплиментом относительно недавно изданной на немецком языке «Порнографии». Я смутился его смущением, тоже что-то пробормотал, и разговор сошел на обычные между нами темы — трубки, пуговицы и лацканы пиджаков.
Новая филармония — «цирк Шаруна», как ее называют таксисты — желтая снаружи, а внутри — легкое элегантное стекание — со всех сторон — плоскостей со слушателями к оркестру, хорошо слушать эту архитектуру и хорошо слушать в такой архитектуре. Караян открыл ее (это был будний день) Девятой симфонией. Оркестр — гордость Берлина, оркестр «великолепен». Даю «великолепный» в кавычках не потому, что я сомневаюсь в этом, а потому, что только специалисты имеют право высказываться на эту тему; остальные, их тысячи, должны верить на слово. И тогда более справедливым было бы высказывание: «слушаешь этот оркестр как великолепный». Но искусство — это роскошь, вот и язык наш, когда об искусстве заходит речь, становится роскошным. Гордо сообщается: «не могу больше слушать Девятую, знаю ее наизусть». На самом же деле даже здесь, в Берлине, Девятую знают не более девяти процентов.
«Замечательный» квартет Вега, столько раз слышанный с пластинок, — теперь передо мною на сцене. Погруженный в людскую массу после грамофонного один на один, я не слушаю, не слышу, только наблюдаю за выходом на сцену и со сцены четырех одетых во фраки господ, окрыленных скрипками, и в особенности — за актерством самого Вега, который умеет свою округляющуюся фигуру воодушевить удивительнейшим терзанием.
Шеринг в филармонии, скрипичный концерт, слабо, поражает хилость скрипки, видны сверхчеловеческие усилия «маэстро», пытающегося вытянуть напевы, гнев, безумство из этих струн… но кто-то «неразбирающийся в музыке» сказал бы, что плохо слышно… Что же все-таки значит «разбираться в музыке»? Это значит: вылавливать критическим ухом мельчайшие несовершенства в исполнении и совершенно забывать о крупных промахах, таких, которые касаются — рискну применить эту метафору — самой шахматной доски, на которой разворачивается игра. Ничего не поделаешь: звук солирующей скрипки слишком слаб для большого зала, даже с самой лучшей акустикой. Даже если фортепиано едва посапывает в этих пространствах, то скрипка просто сикает, причем совсем тонкой струйкой, совсем как… хм… И с точки зрения менее «утонченной» эстетики, то есть менее профессиональной, возможно, было бы более прилично, если бы артист просто отлил, чем смотреть, как у него, безумствующего на этой скрипке, все вдохновения и вся мощь преобразуются… хм… в сиканье. Какая компрометация человеческого духа! Но это, конечно, слишком наивная точка зрения и слишком «неизысканная».
На меня сыпятся приглашения: выставки, концерты, оперы, представления, съезды и лекции… неужели Берлин решил стать Парижем? Количество берлинцев, «разбирающихся в искусстве», в этих условиях должно возрастать в темпе не меньшем, чем количество автомобилей. Но я сохранил мою давнюю неприязнь к зрелищам, не верю, что очереди к билетным кассам могли кого-либо привести к искусству, его надо делать самому, я хочу видеть его не на сцене, а в глазах, в улыбке, на устах и в речи…
Осторожно… внимание… снова молодой скелет… этот молодой нахальный труп! Что значат их театры сейчас по сравнению с театром тогда, они дали миру величайшую трагедию столетия, самое новаторское из представлений, переворачивающее с ног на голову все, что только Европа могла знать о себе, вводящее европейца в новое измерение, — но не о блеске этого ада хочу говорить, а о молодом трупе ближнего, о младотрупной красоте. Один студент говорил мне, что предпочитает потратить несколько марок на автобус, а не ждать у дороги попутки, потому что, как правило, пожилой водитель начинает потчевать воспоминаниями времен войны — а это скучно, очень скучно! Почему студент был так раздражен? Не была ли это элементарная зависть? Не завидовал ли он той молодости, что побраталась со смертью, прекрасно-трупной, поэтически-трупной… он, стоящий в очереди в самые разные кассы, продающие поэзию и красоту, он, пассивный зритель воспроизводимых со сцены драм? Берлин — дело политическое. Берлин — дело культурное, экономическое или метафизическое. Но Берлин также и дело экс-поэзии, отравляющей, как молодой труп, хищной, как молодой труп. Не будем забывать, что красота принадлежит к числу скрытых, но мощных двигателей Истории. Примем во внимание, что не только девушка дрожит за свою красоту, что дрожь свойственна и парням… так что этот студент, стоящий в очереди в кассу со своим бумажником, автомобилем и невестой, со своей мещански-зажиточной жизнью, которая у него устаканилась, но он отравлен ядом той молодой красоты-ужаса, это ностальгия, в которой он ни за что не признается. Заметим еще, что немец как таковой, похоже, такое существо, которое особенно подвержено как уродству, так и красоте. Любовь к науке и технике часто ввергает его в абсолютную эстетическую бесчувственность, в тяжелый, абстрактный педантизм, в очках, с пивом и с блокнотом; но в то же самое время, с другой стороны, бессмертный его лиризм и романтизм отдают его Музам. Так что этот студент в очереди в кассу, где продают уже препарированную поэзию, в рамках рациональ-нофункционального разделения на производство и потребление, порой испытывает глухое и бешеное отвращение, точь-в-точь как если бы он покупал билет в бордель, а потом, развалившийся в кресле, довольный комфортом, который предоставляет ему зал, в меру брезгливый, дрожит, чувствуя возможность уст своих, холодом, страхом, голодом искривленных, поездом увозимых и — Нарцисс — чувствует на устах своих поцелуй тех, солдатских уст своих.
Пожилые, со взором, вонзенным в былое… словно рыболовы, чтобы в темной проклятой воде поймать отражение некогда бывшего на них лица… грозного… наивного… Молодые дрожат, обеспокоенные подземной близостью ровесника… Кто из современных немецких поэтов сподобился выразить эту поэзию? Не знаю такого. И ни один из языков, на которых сегодня говорят в Берлине, ни этот жизненно-практический, ни политический, ни язык теории, веры, морали не в состоянии докопаться до того места под землей, где лежат невинный грех, отвратительная красота, умерщвленная жизнь, живущая смерть. И ни одна красота на поверхности, которая ездит в машине, на мотоцикле, плавает в реке, прыгает с шестом, ходит в кино, ест сэндвич, не в состоянии притупить жало той красоты, которая день превращает в ночь.
Концерты и выставки, театры и кино, лекции и декламации… Конечно. Современно. Рационализировано, организовано, все более «научно». Конечно. Но ты, поэт, если ты хочешь добраться до истока, ты должен спуститься в подземелья. Я ожидаю увидеть тебя чем-то вроде бога о двух лицах.
Спустя год, в мае 1964-го, я покинул Берлин обессиленный, едва сумел забраться в самолет. Болезнь затаилась во мне уже в первые месяцы моего пребывания, а снег, дождь, ветер и тучи северного неба, не виденного мною четверть века, подтолкнули ее и развили. Два месяца в больнице. Плохим гостем я оказался.