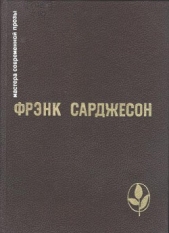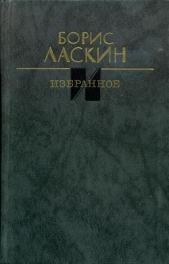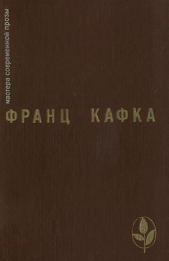Избранное
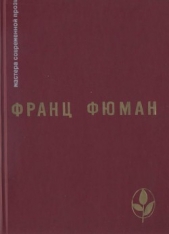
Избранное читать книгу онлайн
В книге широко представлено творчество Франца Фюмана, замечательного мастера прозы ГДР. Здесь собраны его лучшие произведения: рассказы на антифашистскую тему («Эдип-царь» и другие), блестящий философский роман-эссе «Двадцать два дня, или Половина жизни», парафраз античной мифологии, притчи, прослеживающие нравственные каноны человечества («Прометей», «Уста пророка» и другие) и новеллы своеобразного научно-фантастического жанра, осмысляющие «негативные ходы» человеческой цивилизации.
Завершает книгу обработка нижненемецкого средневекового эпоса «Рейнеке-Лис».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И процесс ли это затемнения или прояснения? И не может ли быть так, что нечто становится тем темнее, чем больше оно проясняется, ибо именно благодаря прояснению обретает столько аспектов, что в них невозможно разобраться.
Не может ли оказаться, что некоторые притчи Кафки, например о подступах к закону, являются притчами для воспоминаний?
Ты стоишь сам перед собой, а может быть, тот, Другой, кем ты был когда-то, вообще чужд тебе и ты никогда не был им? Или ты и сегодня остаешься этим Другим? Или ты сегодня воплощаешь в себе сразу обоих? Или воплощал их всегда? Живое противоречие.
Шторы напротив закрыты: black box.
Господи, завтра мое выступление. Я раскрываю новый рассказ, который заботливо приготовил заранее, и, уже проглядывая первую страницу, чувствую такое отвращение, что не могу заставить себя читать дальше… Слова скачут, а не плавно следуют одно за другим, а эта богемская обходительность и неторопливость, эта пыхтящая обстоятельность, а главное — игривость, которую я так ненавижу и которая теперь ухмыляется с каждой страницы и дразнит меня.
Так мило, по-судетски, так забавно, так славненько. Так и хочется воскликнуть: «Ах-ах!»
В богемском диалекте диминутив (уменьшительная форма) образуется окончанием даже не «el», а «l»: Hausl, Glasl, Gartl, Steinl, Krautl, Mädl, Wiesl, Bachl, Briefl, Bluml (домишечко, стеклишечко, садочек, камушечек, травушечка, девочечка, лужочек, ручеечечек, письмишечко, цветочечек). Вот именно: диминутивчик. Такие уменьшительные у меня нигде не встречаются, но весь рассказ пропитан ими.
Лапшичка.
Супчик с лапшичечкой.
Лукачские бани — не помогают, горы — не помогают, букинисты — не помогают, ничего не помогает.
Не иметь критики, побуждающей к предельному напряжению литературных способностей, — проклятие. Когда я читал здесь, в Будапеште, свои первые пробные переводы Аттилы Йожефа и Эндре Ади, реакция публики на каждую строчку показала мне, что удалось, а что нет. Эта исполненная благородства беспощадность вначале смутила меня, но зато обратила мое внимание на проблемы, не выяснив которые я не смог бы двинуться дальше. А указательный палец, ткнувший в мое стихотворение, написанное в 1950 году — это было совсем в других краях, — и слова: «Здесь еще полно гитлерюгенда»… Это было сказано грубее, но в грубости была правда. С каким удовольствием отрубил бы я ему палец, и чем ближе к горлу, тем лучше. Мной овладело чувство стыда и позора… А он был прав, он указал точно место, не то, которое болит, его ты найдешь и сам, а то, которое я считал исцеленным… Пусть он примет мою благодарность, но не лучше ли было бы, если б мне указал на это друг?
Снижение требовательности — тоже ошибочная ориентировка, ибо она не требует предельного напряжения сил и увлекает тебя на ложный путь, уводящий в сторону от истинных твоих возможностей.
Суждение не может содержать суждение о себе самом. Так, житель Крита утверждал, что все жители Крита — лжецы. Количество, включающее себя самое в качестве составной части. Мюнхаузен, который сам себя вытаскивает за косу из болота. Аналогия: литература — критика, но как назвать эту аналогию?
Я не смогу больше выпрыгнуть из собственной кожи и никогда этого не мог. Но, оставаясь в ней, следует смело использовать все возможности, которые она дает, а учитывая наследство, полученное мною в Богемии, не сдерживать фантазию, отваживаться на барокко, отваживаться на мечту, отваживаться на парадоксы.
Но не противоречит ли этому частная задача, которую я призван выполнить, не требует ли она строгого соответствия реальной действительности, точности, верности фактам, убедительной правдивости?
И все-таки хорошо было бы выпрыгнуть из собственной кожи.
И тогда они пришли к реке. Старушка положила в воду красавицу Эршок, наступила ей на ногу, схватила ее за другую ногу и разорвала красавицу Эршок пополам. И тогда из нее выпрыгнули жабы и лягушки и множество всяческой нечисти. «Вот видишь, сынок, эти твари погубили бы тебя, даже если б у тебя была тысяча душ!» Она чисто-начисто вымыла обе половины, сложила их, и они срослись. И девушка стала стократ красивее, чем прежде.
Это венгерская сказка. Но мотив освобождения через страдание — убить, растерзать и, уж во всяком случае, причинить боль и тем самым освободить — встречается в сказках всех народов. Очищение обезглавливанием; очищение огнем; очищение по способам: сдери-с-него-кожу-заживо и поставь-его-к-стенке. Таков опыт человечества.
Надо было бы обдумать миф о Марсии. Но где найти его источник?
День всех святых; день поминовения усопших; перед францисканской церковью, в уголке, дрожат на ветру свечи, кучка дрожащих свечей, а перед ними дрожащие старички и старушки, свечи очень длинные, очень тонкие — дрожащие ангелы, более верующие, чем сами верующие.
В постоянном кафе Ференца грязновато, борделевато, не думал я, что он изберет такое кафе, и самого Ференца не узнать; я собирался поспорить с ним о тезисе: писатель должен уметь писать обо всем; я хотел спросить его, что же, собственно говоря, мешает писателю — внешнее или внутреннее, жир или цепи, преграды на пути или в душе; преграда-стыд; преграда-вина, преграда-язык, преграда-теория, преграда-практика; я собирался поспорить с ним об отношении между обществом и табу, я уже мысленно вошел в роль защитника табу, но Ференц сразу же решительно замотал головой — он не расположен сегодня спорить, сегодня такой прекрасный день, такой ясный день, день поминовения, у него так хорошо на душе, и он пьет одну рюмку коньяка за другой, и рассказывает анекдот за анекдотом, и тут, как если бы это было заранее условлено, перед нами возникает коллега, вырезанный из юмористического журнала: очень худой, очень потрепанный, большие выпуклые глаза больного базедовой болезнью на сухощавой птичьей головке, косо насаженной на позвоночник, упирающийся в пробор, тело закручено спиралью. Человек с птичьей головкой показывает официантке один палец, та смотрит на Ференца, Ференц кивает, коллега подсаживается к нам и спрашивает по-немецки: «Слыхал такой анекдот?..» Официантка приносит ему рюмку коньяку. «Слыхал такой анекдот? — спрашивает человечек с птичьей головкой и выпивает коньяк залпом. — Так вот, в Вене, на Ринге, понимаешь, на Ринге встречаются два еврея, они не знакомы, значит, вот, встречаются два еврея на Ринге в Вене, и один другому говорит: „Позвольте представиться: Столбик!“ И тогда другой говорит: „А зачем мне столбик? Разве я Собакевич?“» Человек с птичьей головкой громко хохочет, еще раз запрокидывает пустую рюмку, Ференц подзывает официантку, человек с птичьей головкой начинает хохотать снова и спрашивает меня: «До вас дошло, коллега? Я имею в виду — дошел ли до вас анекдот, так вот, Столбик, конечно, не столбик, это его так зовут, понимаете, это его фамилия, понимаете, поэтому он представляется: „Столбик!“, а второй говорит: „На кой мне столбик? Я что, Собакевич?“ И он, конечно, тоже не Собакевич, не собака он, так же, как тот не столбик, но у него и фамилия не Собакевич, как Столбика фамилия Столбик, а то не было бы анекдота, иначе он просто сказал бы: „Очень приятно, Собакевич!“ Тогда другой сказал бы: „То есть как Собакевич? Вы что думаете, я — столбик? Нет, это меня только зовут Столбик, так что собакевичам рядом со мной делать нечего!“ Тогда он сказал бы: „Но ведь и я на самом деле не собака, а только Собакевич!“ И тот на это: „И у меня Столбик тоже только фамилия“. Ну, я вас спрашиваю, какой же это анекдот, один не столбик, а другой не собакевич, если это всего-навсего фамилии. Но на самом деле его фамилия не Собакевич, понимаете, а в этом вся суть, он просто подумал, что тот произнес слово „столбик“, потому что принял его за собаку, но он же не может ответить: „Позвольте представиться, меня зовут Столбик“, — если на самом деле он Столбик, тогда другой спросил бы: „Как это назвать, что вы мне объясняете, не как вас звать, а как вас не называть, так как же вас звать, если так не называть?“ На это второй: „Все-таки я Столбик, не в том смысле, что я — столбик, а что меня зовут Столбик“. Уж лучше бы так и сказал сразу. Понимаете?» Он выпивает залпом вторую рюмку коньяку. «Итак: Столбик». Официантка вопросительно смотрит на меня, и я киваю. «Столбик, — говорит он, — если бы его звали не Столбиком, а Собакевичем, и он представился бы „Собакевич“, а не „Столбик“, сказал бы: „Я — Собакевич, и меня зовут Собакевич“, другой ответил бы: „Ну и что ж, что Собакевич? Я не Столбик!“ Понимаете, говорит тот, который не Собакевич, если же называть его Собакевичем вместо Столбика, и он тоже скажет: „Собакевич!“ И оба закричат: „Я вам что, Собакевич?“ Значит, в Вене, на Ринге, два еврея, вы понимаете, но одного только зовут Столбик, а другого вовсе не зовут Собакевич, но он и не Столбик, его зовут Мейер, понимаете, Мейер через „й“». И тут он опрокидывает третью рюмку коньяку, встает и говорит: «Но то, что Мейера на самом деле зовут Мейером, не относится к анекдоту, а то, что Столбика — Столбиком, относится! — Он тычет в меня пальцем, говорит: — Во-о-т, то-о-т!» — опрокидывает пустую рюмку и, повернувшись кругом, выходит.