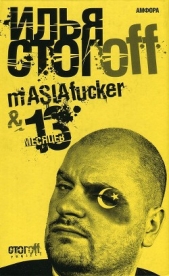Имя твое

Имя твое читать книгу онлайн
Действие романа начинается в послевоенное время и заканчивается в 70-е годы. В центре романа судьба Захара Дерюгина и его семьи. Писатель поднимает вопросы, с которыми столкнулось советское общество: человек и наука, человек и природа, человек и космос.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Видишь, осень… Такое буйство, и осень – непонятно, – проследив за ее взглядом, сказал Иван Карлович и отпустил руку Аленки. – Весной понятно, а осенью… Зачем это?
– Значит, осень, учитель?
– Осень? Для тебя? – Иван Карлович опустил голову. – Какой я учитель тебе, Лена.
– Учитель, учитель, – горячо сказала она, с бережной нежностью присматриваясь к нему. – Ой, Иван Карлович, как я много помню из того, что вы мне говорили. Да вы мой самый дорогой учитель…
– Зачем же так, Лена, помнить все тоже не обязательно, ты ведь хорошо знаешь, память избирательна, в этом ее спасение, – запротестовал Иван Карлович, настроение Аленки, напряженность и недоговоренность передались ему; он был стар и достаточно умудрен жизнью и не льстил себя надеждой, что молодая женщина вдруг, неожиданно, после стольких лет явилась, чтобы просто посидеть с ним и просто вспомнить прошлое; это было приятно ему, но не обязательно; гораздо приятнее было сознавать, что эта женщина здесь потому, что он зачем-то необходим ей, и он, давая увлечь себя воспоминаниями и увлекаясь сам, ждал.
Ветер опять швырнул в стекла охапку опавших листьев из сада; сухо и дробно зацарапало по стеклам, застукало.
Прорвав у самого горизонта облака, остро и радостно ударило солнце в верхние стекла; завершение еще одного дня отдалось непривычно светлой тоской; защемило в груди, стиснуло виски, задернуло глаза. «Стар, стар, совсем стар становлюсь, – подумал Иван Карлович спокойно. – Скоро и конец… Да, но что такое конец?»
– Осень, вот-вот деревья заснут, уже заснули, – подумала вслух Аленка. – Хорошо у них устроено, деревья спят, медведи спят… Почему люди не могут так? Взять и заснуть на несколько месяцев… лет на пять… Почему не могут?
– Они не березки, не медведи, просто люди, Лена. Вот и не могут.
– Как все ясно, – смутным эхом отозвалась Аленка, и в ее голосе Иван Карлович уловил недоумение и обиду. – Иван Карлович, Иван Карлович, – подалась она к нему, – ведь вы знаете, зачем я пришла… Скажите, а он, он мог остаться жить? – спросила она. – Алеша… помните… да вы помните, Сокольцев… конечно, помните. Мог бы он остаться?
Сейчас, казалось, вся душа ее переместилась в глаза, и у Ивана Карловича закружилась голова. Какой-то холодный ветер слегка тронул его ознобом и прошумел дальше. «Что же за пропасть такая – человек? – подумал он неспокойно. – Все тянет его куда-то на глубину, тянет… Все давно ясно, там омут, глубина, гибель, а его все тянет…»
– Алеша Сокольцев… помните? Помните? – бился у него в ушах беспокойный, срывающийся голос; Иван Карлович, приходя в себя, кивнул.
– У меня дурное свойство характера, – сказал он, уходя от прямого ответа. – Я ясно помню всех своих умерших… Алешу Сокольцева помню, как же, помню…
Аленка кинулась всем своим существом навстречу его словам, ожидающе замерла; Иван Карлович побарабанил худыми, длинными пальцами по столу, в глубине глаз у него шевельнулись и пропали какие-то тени.
– Я, Лена, уже достаточно прожил, – продолжил он без всякого перехода прерванную мысль. – Мне хитрить не к чему… Где милосердие приходит во зло? Уложить в какой-то футляр совесть? В какие границы? Ты тогда подвиг совершила, взяла и оставила ему пистолет… какой мучительный подвиг. Не каждый на это способен. У меня дух перехватило… Его еще только сердце держало… молодое, крепкое… А жить он уже больше не мог, жить ему уже было нельзя. Все правильно ты сделала.
– Я убила его, – сказала Аленка с неподвижным лицом. – Он мог бы жить… Понимаете, жить! И моя бы жизнь сложилась по-другому…
– Странно, что ты его еще помнишь, – удивился вслух Иван Карлович даже с каким-то страхом в голосе.
– Да, помню, я как-то особенно его помню, – ответила Аленка глухо. – Как можно помнить то, чего давно нет и никогда не будет. Я его помню, всегда помню… и во сне помню, и наяву… Иван Карлович, Иван Карлович…
– Перестань, Лена, – остановил ее Иван Карлович. – Ты же врач… У него не оставалось даже полшанса.
– Какой я врач? – отозвалась она обреченно. – Просто озлобленная, вздорная, несчастная баба, вот и все.
– Прости, чепуху ты городишь, Лена, – сказал Иван Карлович. – У тебя прекрасная, любимая работа… муж… дочь. Ты счастливая женщина, Лена, не гневи бога, все дело в том, что счастье, когда оно есть, человек не замечает, не ценит.
– Работа… да, работа – это хорошо… и муж – хорошо. – Аленка сейчас ничего не скрывала, не хотела скрывать, откровенность приносила ей какое-то мучительное успокоение. – Только работа не может мне заменить того, чего у меня нет… шла, шла, обронила, и больше нет… я даже точно не могу определить, что я обронила… Как же, и муж есть… Есть… Да ведь женщина на то и женщина, что ей необходимо какое-то сотворчество… Что я могу изменить в товарище Брюханове? – горестно спросила она. – Да ничего… Он, как монумент, раз навсегда высечен и закончен… всегда один и тот же, в любых обстоятельствах… хоть ты разорвись… Нельзя же всю жизнь прошагать рука об руку со статуей…
Иван Карлович, начиная понимать, опустил глаза. Теперь комната была наполнена до краев тускловато-багровым золотом, заходящее солнце было во все окно, и в этом золотом густом настое, на глазах менявшемся, было что-то чрезмерное. Ивана Карловича раздражало это осеннее торжество света в комнате. «Мороза, что ли, ждать?» – подумал он, и словно тупая игла вошла в его сердце, оно тяжело и устало заныло.
– Нет, так не бывает, Лена. Просто вы еще друг друга не разглядели и не поняли. – Иван Карлович протер очки. – Прошлым жить нельзя, Лена. Уж такова природа человека.
Аленка слушала, неотрывно глядя в окно, она сейчас не могла заставить себя посмотреть прямо в глаза старого доктора.
– Прошлым жить нельзя, вы правы, – отозвалась она глухо. – Если бы можно было отрубить прошлое и забыть. И мне никто ничего не забывает и не прощает. И не простит. Да потом, и я, и вы, все люди – это только прошлое. А кто знает, какой я стану? Наверное, вы меня не понимаете…
– Понимаю, отчего же… Скажи, Лена, почему ты не едешь к мужу в Москву? – Иван Карлович пристально изучал свои длинные, худые пальцы.
– Вопрос, дорогой учитель, ненужный, он слишком запоздал…
– Мне очень жаль, Лена. – Ивану Карловичу захотелось погладить и приласкать, ободрить Аленку, как ребенка, но он не решился. С ощущением легкого головокружения старый врач подумал, что вот ради одного такого пронзительного момента стоило жить, стоило пройти и более тяжкий путь.
– Ах, если бы вы знали, Иван Карлович, что это за мука… Когда ничего нельзя изменить… Сама, своими руками… и ничего нельзя изменить! Пойду, пойду, – заторопилась она, тоскуя, – нет, не надо меня утешать, ничего не говорите… пойду.
Оставив встревоженного Ивана Карловича, она, почти сорвав пальто с вешалки, выбежала; в этой солнечной комнате безошибочно уловили все самое сокровенное. Не оглядываясь, боясь оглянуться, она переулками миновала главную улицу Зежска и, словно кто невидимый ее нещадно подгонял дальше, вышла на дорогу в Густищи.
Близился вечер, и солнце уже село; в том месте, где оно опустилось, над землей широкой, незаметно слабеющей полосой разливался малиновый закат. Теперь Аленку охватил почти панический страх, за каждой приближающейся старой ракитой ей мерещился кто-то неведомый, враждебный; один раз она даже вскрикнула и шарахнулась в сторону.
Она вспомнила, что ночью вот так же однажды уже спешила домой, вскоре после госпиталя и встречи с Брюхановым. Жизнь словно вернулась на какой-то изначальный круг, но теперь уже не было ни той радости, ни страстного, нетерпеливого ожидания перемен…
Не останавливаясь, стараясь вытряхнуть из себя все, кроме чувства неостановимого движения, она шла быстро и лишь у самой околицы Густищ, у старых берез, задержалась, прислушалась к посвисту ветра в их облысевших вершинах. Холодная, беспощадная мысль о том, что ей никто теперь не поможет, едва не заставила ее повернуть назад. Она всхлипнула, рванулась навстречу ветру и через полчаса, по детски уткнувшись в грудь матери, беззвучно, безутешно плакала, и Ефросинья, прижимая ее к себе, не могла никак добиться от нее толку, и когда из другой комнаты высунулось заспанное лицо Захара, она замахала на него рукой: