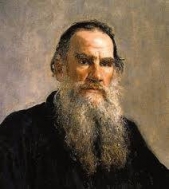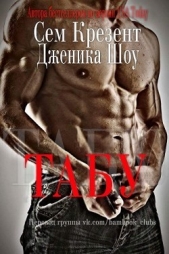Место, куда я вернусь

Место, куда я вернусь читать книгу онлайн
Роберт Пенн Уоррен (1905–1989), прозаик, поэт, философ, одна из самых ярких фигур в американской литературе XX века. В России наибольшей популярностью пользовался его роман «Вся королевская рать» (1946), по которому был снят многосерийный телефильм с Г. Жженовым в главной роли. Герой романа «Место, куда я вернусь», впервые переведенного на русский язык, — ученый-филолог с мировым именем Джед Тьюксбери, в котором угадываются черты самого Уоррена. Прожив долгую, полную событий и страстей жизнь, Джед понимает: у него есть место, куда он вернется в конце своей одиссеи…
Этот роман Роберта Пенна Уоррена в России ранее не издавался
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, в тот первый вечер, когда я из довольно пустынного вестибюля был введен в зал, я не мог в подробностях разглядеть эти тысячи предметов, с которыми впоследствии так тесно сжился, и у меня осталось только самое общее впечатление — таинственные тени, прячущиеся по углам, огромное пространство и огонь в этом необычном камине. Но в том первом впечатлении как будто слилось все, что мне предстояло узнать впоследствии об этом зале и его обитателе. Как будто я во мгновение ока, словно по волшебству, без всяких усилий наконец преодолел ту непроницаемую стену, сквозь крохотные щелки в которой старался хотя бы мельком увидеть залитый светом мир, лежащий за ней. Все, к чему бессознательно стремилась моя душа, открылось мне теперь во всей своей благодатной реальности. Я словно случайно наткнулся на волшебное слово, и чудо случилось.
Я говорю «бессознательно», потому что все мои прежние старания действительно не имели определенной цели, у меня в голове не было никакого ясного представления о том, что я могу и кем хочу стать. Я не задумывался ни о богатстве, ни о славе. Для этого я был слишком неуверен в себе и поэтому, по правде говоря, даже недоволен собой. Я был в самом буквальном смысле лишен честолюбия. Я испытывал лишь некую слепую потребность — слепую, абстрактную и бесформенную. Потребность в чем? Этого я не знал, но чувствовал, что все вокруг полно какого-то таинственного смысла и значения.
Но теперь у меня раскрылись глаза, и я стоял в изумлении в самом средоточии этого мира, не зная даже его имени, — до тех пор, пока в последний вечер, который мне было суждено провести здесь, доктор Штальман не произнес: «imperium intellectus», «царство интеллекта». Но хотя я и не знал, как называется этот мир, это только усиливало то чувство благодарности и благоговения, то сознание своего ничтожества, которые охватили меня, когда я впервые там оказался.
А пять минут спустя, как уже было сказано, я лежал распростертый на полу, бесчувственный, как бревно.
На протяжении двух с половиной лет этот зал был центром всей моей жизни. Кроме того, я время от времени ходил на вечеринки, которые устраивали аспиранты, — первые в моей жизни вечеринки. И была еще, конечно, Дофина, чья элегантно-богемная маленькая квартирка над бывшим каретным сараем находилась всего в нескольких кварталах от «замка Отранто». Благодаря этому я после небольшой утренней дискуссии, в которой рассуждения о Фурье, Сен-Симоне, Энгельсе, Бакунине и тому подобном перемежались со стонами и вскриками сотрясаемой любовью плоти, и после завтрака наедине со своей аппетитной наставницей успевал вовремя поспеть домой, чтобы помочь слуге доктора Штальмана Гансу. И когда я шел по улице, голова у меня гудела от метафизического восторга и сознания осмысленности жизни, перед глазами во всей своей красе стояла полуодетая Дофина, а ноздри были полны ее аромата.
Конечно, эти встречи с Дофиной не могли продолжаться до бесконечности и прекратились, как я уже сказал, в конце весны 1941 года, незадолго до того, как Адольф порвал со своим прежним закадычным другом Джо и этим заставил Дофину в очередной раз заняться политической акробатикой. Но в общем за все эти годы я в наибольшей степени чувствовал себя как дома не в университете и не в роскошном гнездышке Дофины, а в «замке» и с его хозяином общался ближе всего.
Доктор Штальман занимал в моей жизни огромное место. Он разработал для меня целую программу. Это он рекомендовал мне всерьез заняться итальянским языком, чтобы подготовиться к изучению Данте (и к участию в его знаменитом семинаре по теории эпоса), — решение, которое оказало огромное влияние на всю мою последующую судьбу. Кроме того, в определенные дни недели он заставлял меня говорить с ним только по-немецки и терпеливо слушал. Обычно он два-три раза в неделю ужинал вне дома, а в остальные дни ему подавали традиционный немецкий ужин на большом столе в бывшей столовой, и раз в неделю он, с неизменной торжественностью, приглашал меня быть его гостем. Каждые две-три недели он устраивал небольшой званый обед, в заключение которого кто-нибудь из гостей или сам доктор Штальман играл на рояле, или ужин после посещения концерта или оперы. Иногда и я получал приглашение — вероятно, он желал дать мне некоторое представление о светской жизни: на эти поздние ужины все являлись в полном блеске фраков и парадных туалетов. Кроме меня, разумеется.
Для него не существовало мелочей. Когда я начал толстеть, он заставил меня тренироваться в маленьком спортзале, устроенном в подвале. Он сказал, что теперь, когда я забросил футбол, мне поможет сохранить форму фехтование. Он сказал, что научит меня.
— У человека, — сказал он с легкой иронической усмешкой на губах, — должно быть хотя бы одно увлечение, совершенно лишенное практического смысла и не имеющее ни малейшего отношения к реальной жизни.
— В тот первый вечер, когда я шел за вами по улице и вы услышали мои шаги, это мог быть вовсе не я, а кто-нибудь похуже, — заметил я. — Тогда вы могли бы ткнуть своей тростью ему в живот, и ваши занятия фехтованием оказались бы не совсем лишенными практического смысла.
— Вполне возможно, что все на свете лишено практического смысла, — ответил он.
И тут я вдруг заметил, что он даже не смотрит на меня. Его взгляд был устремлен на раскаленные угли в камине.
За время своего знакомства с доктором Штальманом я заметил, что ироническая усмешка появляется у него на губах все чаще. Иронией начали окрашиваться и проявления его обычной доброты, и, хотя я не мог бы сказать, что эта ирония относилась ко мне, она меня почему-то беспокоила. Он стал засиживаться допоздна по вечерам. Несколько раз, спустившись в зал рано утром, еще до того, как появлялся Ганс, я обнаруживал на полу около одного из кожаных кресел, стоявших перед камином, бутылку из-под коньяка и стакан — обыкновенный стакан, а не старомодный бокал, из которого он обычно выпивал несколько глотков после обеда (обычай, который я прежде видел только в фильмах из великосветской жизни, точно так же, как никогда даже не слыхал и о коньяке — во всяком случае, такой марки — до тех пор, пока он меня им не угостил).
Иногда я находил на полу и вчерашнюю газету, а пару раз — атлас Европы. Я пришел к выводу, что перемена в докторе Штальмане как-то связана с войной. Но на эту тему он со мной никогда не разговаривал.
Никогда — до 5 мая 1942 года. Я помню эту дату потому, что это было накануне падения Коррехидора [3].
В тот вечер, в четверг, он пригласил меня поужинать с ним. Впервые за все это время я получил такое приглашение в самую последнюю минуту. Дело шло к вечеру, и я занимался у себя в комнате, когда он постучал в дверь. Он надеется, сказал он, что у меня нет никаких других планов, и просит меня поужинать с ним.
Я сказал, что никаких планов у меня нет, — это была ложь, но не такая уж существенная.
Потом я не видел доктора Штальмана до семи часов — в это время он в те дни, когда я бывал его гостем, обычно предлагал мне выпить перед ужином. Радушно встретив меня, он налил мне шотландского виски с содовой. Выглядел он, как обычно, спокойным и благодушным. Это впечатление оставалось неизменным и на всем протяжении ужина. Мы сидели на одном конце огромного стола, а дальше целые акры красного дерева поблескивали при свете свечей в двух массивных серебряных подсвечниках.
Я не могу припомнить, о чем мы беседовали до той минуты, когда он, с критическим выражением лица попробовав шницель из телятины на немецкий манер и решив, что он вполне приличен, отпил глоток великолепного «Шлосс-Йоханнисберга» и повернулся ко мне.
— Желудок — самый лучший патриот, — сказал он.
— Да, наверное, — согласился я довольно равнодушно.
— Во всяком случае, самый безобидный, — сказал он, и я снова заметил у него на губах эту легкую ироническую усмешку.
Потом, уже не ироническим, а задушевным тоном, на который он был способен и который иногда входил в противоречие с возвышенным стилем его речи, проявлявшимся не столько в выборе слов, сколько в ритме и построении фраз, он сказал: