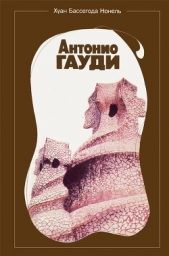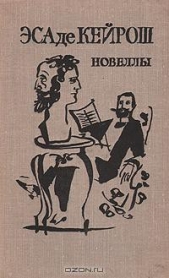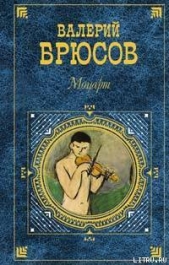Поднявшийся с земли

Поднявшийся с земли читать книгу онлайн
«С земли поднимаются колосья и деревья, поднимаются, мы знаем это, звери, которые бегают по полям, птицы, которые летают над ними. Поднимаются люди со своими надеждами. Как колосья пшеницы или цветок, может подняться и книга. Как птица, как знамя…» — писал в послесловии к этой книге лауреат Нобелевской премии Жозе Сарамаго.
«Поднявшийся» — один из самых ярких романов ХХ века, он крепко западает в душу, поскольку редкое литературное произведение обладает столь убийственной силой.
В этой книге есть, все — страсть, ярость, страх, стремление к свету… Каждая страница — это своего рода дверь войдя в которую, попадаешь в душу человека, в самые потайные ее уголки.
Человека можно унизить, заставить считать себя отверженным, изгоем, парией, но растоптать ею окончательно можно лишь физически, и «Поднявшийся» — блестящее тому доказательство,
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот работает где-нибудь человек, и хорошо ему работается, или лучше так: сидит человек у себя дома, уже отработав, и открывается дверь, и входит к нему легавый — это ничего, что он на двух ногах, что имя у него человеческое, — он пес, он зверь, — входит и говорит: Я тут бумагу принес, надо подписать, это насчет того, чтобы в воскресенье съездить в Эвору на митинг в поддержку испанских националистов, ну, против коммунистов, проезд бесплатный, за счет хозяев или правительства, это одно и то же, на грузовике поедете. Очень хочется сказать «нет», однако, как известно, молчание — золото, и хозяин сидит, жует, притворяется, что не расслышал, но это не помогает, и вошедший говорит теперь уже по-другому, с угрозой. Жоан Мау-Темпо смотрит на жену — она тоже здесь, — а Фаустина смотрит на мужа — вот ему-то вовсе не хочется здесь быть, — а легавый с бумагой в руке ждет ответа — что ж мне ему сказать, не разбираюсь я в этих делах, не знаю я ничего про коммунистов, хотя нет, кое-что знаю, на прошлой неделе видел какие-то бумажки под камнями — краешек торчит, словно знак подает, и я притиснулся к тем камням и незаметно бумажки достал, никто не видел, а случись иначе, легавый тут же показал бы зубы, а может, сказали, вот он и пришел проверить, отважусь ли я отказаться от этого митинга, не подписать, этот пес не отвяжется, услышит и расскажет, мало ли из-за него народу пострадало, надо что-нибудь придумать: скажу — нездоровится, скажу — надо стену в крольчатнике подправить, ох, не поверит, а потом могут и забрать меня. Ладно, давай бумагу, подпишу.
Жоан Мау-Темпо поставил свою подпись на листе, где уже стояли подписи других и фамилии тех, за кого подписались «по просьбе» — таких, неграмотных, было большинство. И когда Лягаш ушел дальше собирать подписи, нюхая воздух, как гончая, — ах, подлец! — Жоану Мау-Темпо страшно захотелось пить, и он стал пить прямо из кувшина, пытаясь залить водой внезапно вспыхнувшее в нем пламя — пламя непонятного стыда: кто-нибудь другой на его месте выпил бы вина. Фаустина что-то поняла, и ей не понравилось то, что произошло, но она попыталась подбодрить мужа: Зато съездишь в Эвору, развлечешься — и ведь бесплатно: привезут-увезут, жалко, нельзя Антонио взять, вот бы порадовался. Фаустина говорила что-то еще, сама не понимая, что бормочет, но Жоан Мау-Темпо очень хорошо знал, что слова в конце концов как прохладная рука на лбу больного, ее движения не спасают, но приносят облегчение, и все-таки… И все-таки нехорошо принуждать человека, а ведь они принуждают, я хотел притвориться больным. Брось, сказала ему Фаустина, прокатишься в Эвору, отца с матерью этим не опозоришь, правительство дурного не делает. Не делает, повторил Жоан, а тот, кто, услышав этот диалог, закричал бы, что народ погиб, тот опять же ничего не понимает: пора сказать, что народ живет в глуши, что до него не доходят известия о творящемся в мире, а если и доходят, то он их не понимает, ибо только ему одному ведомо, что стоит сводить концы с концами.
И вот приходит день, настает условленный час, люди собрались на повороте шоссе, а иные, пока не пришел грузовик, направились в таверну и там на все наличные вспенили вином трехсотграммовые стаканы, вытянули губы трубочкой, чтобы ощутить аромат и вкус лопающихся пузырьков пены, — ах, вино, дай бог здоровья тому, кто тебя выдумал!
А некоторые — люди более разборчивые или сведущие — в таверну не пошли, крепились до Эворы в предвкушении тамошних чудес, нагуливали аппетит, а в итоге суждено им будет оказаться в дураках: в Эворе всех высадят из грузовика прямо у ворот арены для боя быков, а по окончании празднества оттуда же и увезут. За морем телушка — полушка, лучше синица в руках, чем журавль в небе, — такими поговорками утешаются многие, по этой науке они живут и счастливы бывают, и на этот раз тоже правы оказались те, кто к приходу грузовиков уже блаженно растянулся на обочине: животы благодарно урчат, несет благородным винным перегаром, во рту еще чувствуется чудесная терпкость — все как в раю.
И вот они едут. На поворотах, даже если скорость невелика, грузовик накреняется, и люди должны цепляться друг за друга, чтобы не вылететь от толчков, ноги скользят, ветер срывает шапки — держи, снесет! Эй, куманек, не гони так, вывалишь кого-нибудь в лужу, говорит самый веселый, хорошо, что нашелся такой, без шутки жизнь совсем печальная. В Форосе подсадили в кузов еще народу, а оттуда все вправо и вправо — вон уже виден Монтемор — нам с тобой, читатель, туда еще рано, — а вон Санта-Софиа и Сан-Матиас. Я здесь никогда не бывал, но у меня тут родня: двоюродный брат моей свояченицы, он парикмахер, хорошо устроился — бороду-то каждому надо брить, не будь бороды — зачем брадобреи, не будь у нас охоты — на что тогда бабы? — я с тех пор, как в армии отслужил, к девкам не ходил. Мужские шуточки. Человечество постаралось изо всех сил усовершенствовать общение такого рода — в латифундии теперь есть грузовики. Вон уже и Эвора видна, а Лягаш — тоже едет, собака, — объявляет: Как вылезем, всем идти за мной, не разбредаться, — и от этих роковых слов скукоживаются мечты о вине и бабах — о вожделенной воображаемой женщине, о долгой ночи с нею, — от мечты проку мало.
А площадь перед ареной полна. Крестьяне идут организованно, по деревням, их ведут, как стадо, иногда и сам хозяин подойдет, пошутит с ними, и обязательно найдется подлиза, который так и расстелется перед ним к стыду тех, кто поехал сюда, только боясь лишиться работы. Но, по правде говоря, каждый старается выглядеть веселым. Народ добродушен — от нас ждут веселья, так будем, значит, веселиться, хотя все это мало похоже на праздник, ну так ведь и не похороны — так скажите ж, смеяться мне или плакать, когда буду кричать «ура!» и «долой!»? Одни заполняют ряды скамеек, другие толпятся на арене — а лучше бы все-таки бой быков, — и никто не знает, что тут будет, что такое «митинг». А где ж Лягаш? Не знаешь, когда праздник начнется? Знакомые здороваются, застенчивые стараются пробиться поближе к тем, кто держится уверенно: Сюда, сюда иди, а Лягаш вдруг говорит: Не разбредайтесь, держитесь все вместе и слушайте внимательно, тут речь пойдет о важном: нам скажут, кто нам добра желает, а кто зла, — как было бы хорошо прямо из рук Лягаша получить плоды с древа познания добра и зла, как все, оказывается, просто, ни о чем не думай, упрись задницей в скамейку и все… Эй, друг, а где тут нужник? — это уже признак неуважения, и Лягаш хмурит брови, делает вид, что ничего не слыхал, и вот начинается… Господа, о, вот это здорово, и я в господа попал — и где — на корриде в Эворе, а больше никогда я господином не был, я и сам себе не господин, чего он говорит?… да здравствует Португалия!… не разберу… Мы, породненные единым патриотическим идеалом, собрались здесь, чтобы показать вождю нации: мы — верные продолжатели дела великих сынов португальского народа, открывших миру новые миры, пронесших святую веру и знамя нашей империи до самых отдаленных уголков планеты, и мы заявляем, что в грозный час опасности, как один человек, сплотимся вокруг Салазара, вокруг нашего гениального вождя, вся жизнь которого… — тут все кричат: Салазар, Салазар, Салазар! — вся жизнь которого — пример беззаветного служения отчизне, пример борьбы с варварством Москвы, против проклятых коммунистов, угрожающих нашим семьям, коммунистов, которые хотят убить наших отцов и матерей, надругаться над нашими женами и дочерьми, сослать наших сыновей на каторгу в Сибирь, уничтожить святую церковь, потому что все они атеисты, безбожники, люди без чести и совести, долой коммунизм, смерть коммунистам! Долой! Смерть предателям родины! Смерть! Все покорно кричат вслед за оратором: кто еще не понял, зачем он тут, а кто начинает понимать и мрачнеет, а кого и убедили — или обманули, — речь произносит рабочий, а потом выходит человек из «Португальского легиона» [16], он вскидывает руку и орет: Португальцам — власть! Португальцам — жизнь!… — куда хватил, власть у хозяина, ну, а насчет жизни — уж как получится, но все повторяют жест легионера, и не успел он уйти, как уж разевает пасть новый, и как им не надоест столько говорить, это насчет Испании, — националисты ведут борьбу с красными, на полях сражений в Андалусии и Кастилии отстаивая вечные и священные завоевания западной цивилизации, и долг каждого из нас — помочь нашим братьям по вере, а спасение от коммунизма — в сохранении христианской морали, живым воплощением которой является наш Салазар — о, дьявол, у нас, значит, есть теперь живое воплощение, — мы не пойдем на сделку с врагом, — ох, язык без костей, — а теперь речь пошла про замечательный народ этого края, который собрался здесь, чтобы поблагодарить великого сына Португалии, выдающегося государственного деятеля, посвятившего всю свою жизнь служению родине — дай ему Бог здоровья, — и я расскажу председателю Совета министров о том, что видел здесь, в славном и древнем городе Эвора, и заверю его в том, что тысячи наших сердец всегда будут биться в такт с сердцем отчизны! Вы и есть отчизна, бессмертная, величественная, прекрасная страна, самая замечательная из всех стран, потому что нам выпало счастье иметь правительство, которое ставит интересы нации превыше интересов какого-либо класса, ибо люди уходят, а нация пребудет вечно, смерть коммунизму доло-о-ой, долой коммунизм, до-лой, сме-е-рть! Чего ты кричишь? — а все равно никто не разберет, — и мне хочется напомнить, что жизнь в провинции Алентежо вовсе не благоприятствует, как считают иные, развитию подрывных умонастроений, потому что крестьянин трудится рука об руку с землевладельцем, поровну деля и прибыли и убытки, ох-хо-хо, Лягаш, пусти по нужде, что это за шутки, как ты смеешь в такой ответственный момент, когда родина… Ну, родине-то не надо, а мне невтерпеж, — и хорошо одетый господин на трибуне раскрывает объятия, словно хочет расцеловаться с нами со всеми, но ему не дотянуться, и потому он обнимает всех, кто стоит поблизости: командира легиона и майора, приехавшего из Сетубала, и депутатов национального собрания, и командира пятой кавалерийской роты, и этого типа из НИТОС, — не знаешь, спроси, — Национальный институт по труду и социальному обеспечению, — и всех приехавших из Лиссабона, и все они так похожи на ворон, обсевших ветки оливы, нет, тут ты ошибся: это мы вороны, это мы сидим в ряд на скамейках, хлопаем крыльями и разеваем клюв — гремит музыка, играют гимн, все встают — одни знают, что так полагается, другие — потому что все встают, а Лягаш обводит взглядом своих подопечных: Всем петь, чего захотел, я слов не знаю, это ж не «Марьянита», пошли отсюда, еще нельзя, эх, если б можно было взлететь, расправить крылья и улететь отсюда куда-нибудь подальше, пролететь над полями, над возвращающимися грузовиками, — ох, тоска, ох, как там все было тоскливо, и весь народ вдруг принимается кричать, да так, словно ему заплатили — даже не знаю, что хуже, когда платят за это или когда бесплатно глотку дерешь… Ты не огорчайся, Жоан. Я и не огорчаюсь, Фаустина, погнали нас, как баранов, мы и пошли. Близок вечер, оттого еще грустней, в грузовике кто-то пробует запеть, и еще двое подтягивают, но когда уж очень грустно, то и не поется, и слышен теперь только шум мотора, и на ухабах людей бросает друг на друга — плохо закрепленный груз, швырнули нар в кузов навалом, нет, Жоан Мау-Темпо, это была скверная работа. Крестьян высаживают у въезда в Монте-Лавре — они стоят, сбившись в стаю, как темные птицы, а потом расходятся: одни в таверну — залить жажду и горечь, другие что-то бормочут, словно не в себе, а третьи, самые печальные, идут по домам. Что ж мы — куклы? Привезли — увезли, кто мне возместит этот день, у меня работа была в саду, если б не этот гад легавый, ничего, когда-нибудь с него спросится, — все эти угрозы себе под нос чуть-чуть заглушают боль где-то внутри, а мы ведь не знаем, как об этой боли рассказать, словами ее не определишь, вроде ничего не болит, в всего изуродовали. И Фаустина спрашивает: Ты уж не заболел ли? Жоан отвечает, что нет, не заболел, и все на этом, потому что чувств своих изъяснить он не может. Ты не огорчайся, Жоан. Я и не огорчаюсь, но легче ему станет, только когда он заснет на плече Фаустины. Тогда и снимется камень с души.