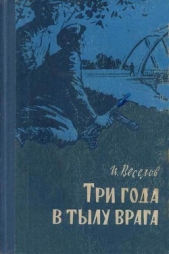Иной мир (Советские записки)

Иной мир (Советские записки) читать книгу онлайн
Автор описывает свое пребывание в лагерях ГУЛАГа, где он разделил судьбу десятков тысяч поляков, оказавшихся на территории Советского Союза в начале Второй мировой войны. Отличительная особенность "Записок" Г.Герлинга-Грудзинского заключается в том, что он не вынес чувства озлобленности против русского народа. Этот факт имеет важное значение для развития российско-польских отношений. Рассчитана на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда Ганс кончил свой рассказ, я спросил, глядя на всех троих, думают ли они, что немецкие концлагеря действительно лучше советских трудовых лагерей. Ганс пожал плечами и что-то пренебрежительно буркнул, но Штефан, казалось, отнесся к такой точке зрения с пониманием. Тогда до сих пор молчавший Отто поднял свою громадную голову, прошил его холодным взглядом маленьких глазок и сказал - воспроизвожу почти дословно: «Du hast eine Lust zu philosophieren, Stefan, aber Heimat ist immer Heimat, und Russland wird immer ein Dreck sein». Отказался и я от этого «философствования». В обстоятельствах, в которых находились все мы четверо, говорить им об ужасах гитлеризма значило бы то же самое, что объяснять трем крысам, попавшим в мышеловку, что ближайшая дырка в полу ведет точно в такую же ловушку.
На рассвете следующего дня они ушли с этапом в Няндому. Штефан заметил меня перед вахтой в толпе зэков, строившихся бригадами к выходу за зону, и, подняв руку, крикнул: «Auf wiedersehen mein Freund!» В апреле я получил от Ганса письмо, которое храню по сей день. Он писал: «Stefan war hier auf allgemeiner Arbeit. Mir, Hans, ist es allerdings gelungen hier als Maschinist zur arbeiten. Otto ist noch auf allgemeinen Arbeit im Sagewerk beschaftigt. Wir bekommen nicht einmal von unseren Angehorigen aus der S.S.S.R. Post. Wir traurig sieht hier oben in Norden der Fruhling aus, und besonders unter den Bedongungen unter den wir hier leben».
До 1947 года я был убежден, что вся история правдива только до того места, в котором советские власти с помощью германского посольства в Москве разбили бунтовавших немецких коммунистов на множество групп, заново перемешав зэков, и всех «оставили по собственному выбору» в разных тюрьмах. Только в Лондоне от прямого участника этих событий Александра Вайсберга-Цибульского, видного венского коммуниста и товарища по борьбе молодого Кестлера, я услышал эпилог этой истории, разыгравшийся зимой 1940 года на мосту в Бресте, - а годом позже это было подтверждено также и в книге Маргариты Бубер-Нойман. Ночью через мост на Буге на ту сторону перешла толпа немецких коммунистов, которые без всякой триумфальной арки возвращались на родину, чтобы по-прежнему жить на Западе. Среди них не было моих трех товарищей. Сопротивлявшихся немецких евреев НКВД силой отдавало в руки гестапо. Вайсберг-Цибульский бежал из эшелона за Бугом и всю войну скрывался в Польше.
РУКА В ОГНЕ
«…а так как совершенно без надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве».
Достоевский. Записки из мертвого дома
Вопреки всему, что принято думать, система принудительного труда в России - включая следствие, пребывание в тюрьме и жизнь в лагере - направлена не столько на наказание преступника, сколько на его экономическую эксплуатацию и полное «перевоспитание». Пытки на следствии применяются не как принцип, но как вспомогательное средство. Принудить обвиняемого к подписи под вымышленными, фиктивными обвинениями - не главная цель, главная же - добиться полного распада его личности.
Человек, которого еженощно будят - месяцами, а то и годами, - лишаемый права на удовлетворение самых элементарных физиологических потребностей, человек, которого часами заставляют сидеть на жестком стуле, слепят направленной прямо в глаза лампой, колют хитроумными вопросами и осыпают нарастающим градом бредовых обвинений, садистски изводят видом папирос и горячего кофе на столе, - такой человек готов подписать всё. Но это еще не главное. Заключенного можно считать «препарированным» для последней операции только тогда, когда прямо видно, как его личность распадается на мелкие составные части: между логическими ассоциация ми возникают пробелы; мысли и чувства перестают прочно лежать на своих местах и разбалтываются, как в испорченной машине; приводные ремни между настоящим и прошлым съезжают с ведущих колес и падают на дно сознания, все рычаги и шестеренки интеллекта и воли цепляются друг за дружку; стрелки на счетчиках скачут как ошалелые от нуля до максимума и обратно. Машина продолжает крутиться на ускоренных оборотах, но уже не работает как работала: все, что только что казалось обвиняемому нелепицей, становится правдоподобным, хотя еще и не правдивым, эмоции меняют окраску, напряжение воли исчезает. И то, что ты писал письма родственникам за границу, может оказаться предательством интересов рабочего класса, а то, что работал без особого старания, - саботажем строительства социализма. Для следователя наступает решающий момент. Еще один меткий удар в одеревенелый хребет сопротивления - и машина остановится. Человек, усыпленный наркозом, на долю секунды зависает в пустоте, ничего не чувствует, ни о чем не думает, ничего не понимает. Надо действовать быстро, как при искусственном нервном шоке или при переливании крови, когда сердце пациента на мгновение останавливается. Чуть-чуть прозевать, чуть-чуть затянуть - и пациент проснется на операционном столе и взбунтуется или сломится больше, чем надо, погружаясь в полную апатию. Теперь или никогда! Глаза следователя ищут единственное, приготовленное на этот случай вещественное доказательство, а руки хватаются за него, как за ланцет. Еще несколько часов тому назад этот аргумент выглядел чепуховым, хотя, в отличие от других, не лишенным некоторых оснований, - теперь в опустошенном воображении обвиняемого он вырастает до гигантских размеров. Ланцет попал в точку и пошел вглубь. В лихорадочной спешке хирург вырезает сердце и переставляет его слева направо, ампутирует зараженные слои коры головного мозга, пересаживает обрезки кожи, меняет кровообращение, наново связывает изодранные нервы. И вот человеческий механизм, остановленный на нулевой точке и разложенный на мельчайшие частицы, снова сложен, но по-иному: логические пробелы заполнены другими связями, мысли и чувства пригнаны к другим ложам, приводные ремни принимаются передавать не прошлое настоящему, а настоящее прошлому, инстинкт и воля работают в другом направлении, стрелки на счетчиках навсегда замирают на максимуме. Обвиняемый очнется от остолбенения, повернет измученное или улыбающееся лицо к своему благодетелю и, глубоко вздохнув, скажет, что теперь он все понимает, а до сих пор всю жизнь заблуждался. Операция прошла удачно - пациент родился заново. Еще только раз, когда, вернувшись в камеру, он станет к параше и, отливая сдерживаемую несколько часов мочу, почувствует на лбу капли пота, а во всем теле - облегчение и расслабленность, он на мгновение усомнится: уж не сон ли ему приснился? или он и вправду наяву пережил свое перевоплощение? В последний раз в жизни он уснет с этим ощущением мучительной неуверенности, но на следующий день проснется поздно, пустой, как вылущенный орех, и ослабевший после нечеловеческих усилий всего организма, но озаренный мыслью, что все это наконец позади. И когда он начнет ходить между нар, ни к кому не обращаясь ни словом, можно быть уверенным, что он делает свои первые шаги в ином мире - реконвалесцент с быстро затягивающимися ранами и наново срастающейся личностью.
Период между окончанием следствия и заочным приговором, после которого обычно быстро отправляют в лагерь, занят у него в камере приспособлением к новым обстоятельствам. Инстинкт подсказывает, что не стоит вдаваться в разговоры с зэками, еще не пережившими Великого Перелома, - швы у него на ранах еще слишком свежи, чтобы устоять перед горстями соли, которые могут на них посыпаться. Подсознательно он ничего так не боится, как минуты, когда его новая действительность рухнет от одного удара, словно карточный домик, а какой-то атавистический, заваленный руинами старого мира голос толкнет его к двери со сжатыми кулаками и отчаянным криком: «Все это ложь, ложь! Ото всего отказываюсь! Пустите меня к следователю, я хочу к следователю! Я ни в чем, ни в чем не виновен!» Если счастливая судьба убережет его от такой минуты - страшной минуты, когда старый мозг проявит достаточно сил, чтобы понять, что новое сердце бьется иначе и не на прежнем месте, и уничтожить тем самым труд многих месяцев, а то и лет, - то он может целыми днями равнодушно и спокойно лежать на нарах, дожидаясь этапа в лагерь. В этом состоянии лунатического оцепенения через несколько дней он замечает в холодной стене своей собственной тюрьмы узкую щель, через которую просачивается слабый свет последней надежды. Он начинает мечтать о лагере. Сначала робко, потом все сильнее неведомый голос - драгоценный пережиток прошлого, единственное доказательство того, что все было и могло быть по-другому, - манит его картиной свободной жизни в лагере, среди людей, в числе которых должны же найтись такие, кто не забыл прежнюю жизнь. Теперь он рассчитывает, главным образом, на две вещи: на труд и на сострадание. Не для себя он ищет сострадания - то, что он пережил, он, по сути дела, считает победой. Но подспудно он чувствует, что для того, чтобы уберечь нить, которая связывает его с доисторическими временами, когда он был другим, он должен любой ценой пробудить в себе сострадание к товарищам по неволе, жалость к чужим страданиям, единственный критерий того, что, преобразившись, он не перестал быть человеком. «Разве можно жить без сострадания?» - спрашивает он сам себя по ночам, ворочаясь с боку на бок и беспокойно потирая лоб, будто пытаясь припомнить, испытывал ли он прежде при мысли о чужом горе такое же болезненное равнодушие, как сейчас, во второй раз родившись. Разве можно жить без сострадания?