Черная любовь
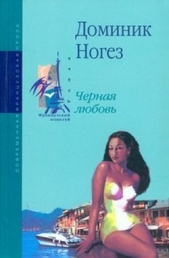
Черная любовь читать книгу онлайн
Она поразила его воображение с первого взгляда — великолепная черная женщина, гуляющая по набережной курортного Биаррица. Род ее занятий — стриптизерша, к тому же снимающаяся в дешевых порнографических фильмах — предполагал быстротечный, ни к чему не обязывающий роман, и не роман даже, а так — легко стирающееся из памяти приключение, которое, наверное, бывает у большинства мужчин. Однако все оказалось гораздо сложней.
История губительной, иссушающей страсти, рассказанная автором без присущих дамам сантиментов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но мы хотя бы избежали обменов междометиями, характерных для тех, кому особо нечего сказать друг другу. С ней было все или ничего, кукиш с маслом или воплощение самых буйных фантазий — даже музыкальный речитатив в качестве беседы за обедом, как в «Девушках из Рошфора». Если она была в хорошем настроении — и именно это в наших отношениях больше всего напоминало счастье, — ее слова, даже когда она просила передать соль или принести хлеба, выходили за рамки предсказуемого: это были выпады, фантазии, причуды, в будние дни отличающиеся легкостью праздничных реплик. Между двумя глотками или за мытьем посуды она изрекала глубокие истины с видом игры, никогда полностью не соответствуя своим словам, оставляя в них нечто неуловимое, некую игру и воздушность, так что слова касались излагаемого ими, как ласковая рука касается кожи: наверное, так беседуют в раю.
XIII
Но было и самое худшее — например, однажды вечером я испытал то, что мог бы назвать «соперничеством в фантазиях». Мы только что позанимались любовью и лежали в постели, слушая стереозапись «Дочери Мадам Анго». Вдруг она сказала, показывая тем самым, насколько мало энтузиазма вызывает в ней оперетта Шарля Лекока: «Надо мне позвонить Кристель», и стала разговаривать по телефону из постели. Между ариями, временами заглушая их, донеслись до меня ее слова — она говорила о том о сем, потом спросила: «Мне не звонили?… Странно, мне никто больше не звонит. Меня забыли». Пока она говорила, я потихоньку ласкал ее, и она охотно позволяла это. «Ладно, я прощаюсь», — сказала она наконец своей собеседнице. И я обрадовался, подумав, что она попрощалась с подругой, чтобы быть ближе ко мне. Но, стоило ей повесить трубку, она стала молчаливой, даже враждебной, замкнутой, задумчивой. Я встал, чтобы перевернуть диск. А когда я вернулся в постель, она мастурбировала молча, с остановившимся взглядом, и я был уверен, что она думает о ком-то конкретном. Тягостная конкуренция. Тогда я лег рядом с ней, пребывающей на самом деле за тысячи километров от меня, едва осмеливаясь прижаться к ее коже и ласкать ее, — я был вынужден принять как бы подпольно участие в наслаждении. Кончив, она встала, даже не посмотрев на меня, не обращая внимания на мои терзания.
XIV
Любящим, почти растроганным взглядом я смотрю сегодня на старые особняки квартала Роморантен с фахверками и черепичными крышами, на фасад часовни, белой и простой под солнцем, как платье причастницы, на увитую плющом башню, которая, как говорили, была построена, чтобы служить «библиотекой» Монтеню, а главное — на реку Содр, одно название которой, чувствую, говорит одновременно и об источнике, пробивающемся наружу, и о свежести ветвей плакучей ивы, и о лиловом отливе роз и тихом потрескивании зерна, которое перемалывают мельницы на берегах.
Мне случалось говорить Лэ, когда мы ночью гуляли по городкам, подобным этому (некоторые из них были еще незнакомы нам — туда мне удавалось заманить ее на денек-другой), и от фасадов отдавалось эхо наших шагов: «Видишь, все вокруг заснули, мы как городские сторожа». Иногда даже в эйфории, вызванной спокойствием улицы или спокойствием старого квартала, который, казалось, находился в полном нашем распоряжении, поручен только нашей бдительности, как будто мы тайно получили ключи от него, или в умилении, в которое нас погружала игрушка, забытая на тротуаре, афиша, объявляющая о местном событии (ярмарке или конкурсе игры в бел от), фургончик строителей, еще полный инструментов и запачканных штукатуркой комбинезонов, сброшенных по возвращении с работы, — у нас было впечатление, что мы не только являемся хранителями душ (во множественном числе — всех этих уснувших и тихих душ), но и самой души города или края, что мы какие-то великие смотрители Франции, не как халифы из «Тысячи и одной ночи», шпионящие инкогнито за своими подчиненными, а, напротив, как президент с супругой, полные снисходительности и нежности к каждому из наших сограждан, столь абстрактно влюбленные в общее благо, или как школьные директоры, обходящие дортуары мирно спящих пансионеров, почти как брат, тайно посещающий брата своего, чтобы убедиться, что у них обоих все хорошо.
Это впечатление требует самой глубокой тишины. Лишь только бар изрыгнет полуночника, лишь только зафырчит мотор фургона, из которого водитель в комбинезоне выбегает, чтобы доставить по назначению свои белые бутылки, оно растает как по волшебству, и город снова станет чужим.
Может быть, из-за только что прошедшего ливня, едва ли затмившего солнце, воздух сейчас чистый и теплый. Я снова вспоминаю Летицию, столько счастливых минут, которые мы пережили вместе в городах, похожих на этот, в эти сумрачные часы, о стольких вещах, о которых еще не успел написать.
XV
К концу первого периода нашей совместной жизни она уходила все чаще и больше не трудилась даже врать. Вначале я бесконечно страдал, когда обнаруживал ночью новые имена и номера телефонов в ее записной книжке, которую она, однако, редко оставляла без присмотра — действительно, это была единственная вещь, которую она не оставляла где попало (я дошел до того, что обыскивал ее записную книжку, как другие обыскивают карманы!). Может быть, это не имело значения — товарищи или подруги по работе, ничего сексуального. А может, и имело. Несколько раз ей приходили открытки без конверта, которые я, таким образом, мог прочитать (почти всегда именно я брал почту с коврика у двери, куда ее с шумом бросала консьержка каждое утро, около девяти, когда Лэ еще спала); недвусмысленные признания в любви с незнакомыми подписями, мужскими или женскими. Но наконец я смирился с этим. В конце концов, между нами всегда существовало соглашение, пусть негласное, что каждый из нас сохраняет свободу («Сколько раз на этой неделе ты мне изменил?» — говорила она мне иногда после недолгой разлуки, как бы отпуская грехи, а на самом деле, желая внушить мне, что непостоянство в порядке вещей, что оно вполне допустимо и тем самым заранее оправдаться самой), и я действительно нарушал нашу взаимную верность, но бесконечно меньше, чем она. И я брал на себя это бремя, принуждал себя к прощению или скорее к забвению, руководствуясь следующим соображением Валери Ларбо: обманутый «всегда и везде в выигрышном положении». Какое-то время я был не просто обманутым — я раскошеливался. Контракт Лэ в каком-то кабаре был аннулирован по ее вине, и поэтому она осталась без гроша. Я предложил помочь ей. Сначала она отказалась, потому что хотела уехать за границу и начать там новую жизнь со мной или без меня («приезжай, если хочешь» подразумевало: если ты не поедешь, я все равно уеду!), но я так настаивал, что она вскоре снизошла до согласия. Счастье, подумал я, не имеет цены. Я повторял про себя пугающую фразу Миллера из «Сексуса»: «Нет среди нас ни одного, кто не был бы виновен в преступлении, в страшном преступлении: не прожить свою жизнь полностью». Это «полностью», казалось мне, оправдывает все безумия, все усилия. Мне часто снились два повторяющихся сна: у меня выпадали зубы, они крошились у меня во рту, и я выплевывал их один за другим; или я оказывался голым на заснеженных просторах. Я узнавал в них ту же хрупкость, то же чувство уязвимости, одновременно сладкое и устрашающее, которое заставляло бросить вызов неведомой опасности или просто подвергнуться общественному порицанию. Все счастье, думал я, заключается в нашей способности полюбить сразу же, изо всех сил, это все, что останется потом, когда придет время тоски по прошлому.
Но наконец я истощил свои возможности. Нельзя долго нести свою любовь на вытянутых руках. И одно из этих лекарств от любви, на поиски которого я столь тщетно пускался несколько раз в моей жизни, чтобы не страдать, произвело теперь, когда я больше не пытался, на меня свое действие: речь идет о страхе или впечатлении беспокоящей странности, которое может вдруг внушить нам любимое существо. За две-три недели до того момента, к которому возвращает меня это воспоминание, я уже с удивлением обнаружил в спортивной сумке (такую я никогда у нее не видел), пару туфель на высоком каблуке, колготки в сеточку и даже кожаный ошейник.

























