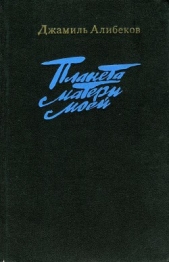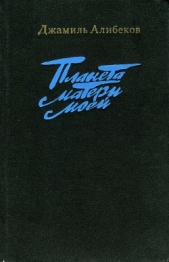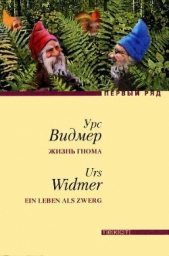Любовник моей матери

Любовник моей матери читать книгу онлайн
Впервые в России выходит книга Урса Видмера (р. 1938), которого критика называет преемником традиций Ф. Дюрренматта и М. Фриша и причисляет к самым ярким современным швейцарским авторам. Это история безоглядной и безответной любви женщины к знаменитому музыканту, рассказанная ее сыном с подчеркнутой отстраненностью, почти равнодушием, что делает трагедию еще пронзительней.
Роман «Любовник моей матери» — это история немой всепоглощающей страсти, которую на протяжении всей жизни испытывает женщина к человеку, холодному до жестокости и равнодушному ко всему, кроме музыки. Российский читатель впервые знакомится с творчеством Урса Видмера, одного из ведущих современных швейцарских авторов, пишущих по-немецки.
Роман Урса Видмера доказывает, что современная немецкая литература может быть увлекательной, волнующей, чувственной — оставаясь при этом литературой самого высокого уровня.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Странность матери состояла уже не в том, что она стояла поленом в углу, как когда-то в детстве. В ознобе от возбуждения, со сжатыми кулаками, с закатившимися глазами, с мыслями о королях и убийцах, чьей жертвой и повелительницей она была. Она не скакала больше по своим светлым внутренним ландшафтам, пока ее оставшаяся на земле телесная оболочка бесформенно стояла в углу. Нет. Ее странность теперь заключалась в том, что она стала точно такой же, как все люди. Нормальной. Да, она была нормальнее самых нормальных — потому что безошибочно могла отделить правило от исключения. Она никогда не позволяла себе, как они, немного что-то сократить, сделать перерыв, перевести дух, но всегда шла предписанным законом путем. Она была аккуратнее самых аккуратных, пунктуальнее самых пунктуальных. (Ей самой так не казалось, в ее глазах она всегда оставалась недостаточно совершенной. Никто, не говоря уж о ней самой, не имел абсолютно чистой кожи, лишенной каких бы то ни было загрязнений.) Если она стелила постели, то на веки вечные. Если здоровалась с кем-нибудь — «Добрый день, господин профессор! Добрый вечер, госпожа доктор!»— то улыбка ее была еще чуточку теплее, чем у тех, кто ей отвечал, голова склонялась еще чуточку ниже. (В снах она была не такой. Ей снилось — или это снилось ее ребенку? — будто ее ребенок ест собственное сердце, потому что боится материнской пищи. Он сошел с ума, ее ребенок, у матери сумасшедший ребенок, про это даже в полиции уже знают, и соседи, да все. Ей грезилось — или ее ребенку, — что у нее окровавленная страшная пасть.) Теперь она много говорила, практически не умолкая, и громко. Она всегда стояла слишком близко. Так что любой — мужчина, женщина, ребенок и даже собака — сразу же отступали на шаг назад. Она, конечно, сразу же придвигалась. Она начинала разговор в дверях и долго не заканчивала у садовой калитки. Те, кто говорил с ней, рано или поздно сдавались, измотанные, уставшие. Соглашались со всем, что она говорила, даже с самыми странными вещами. Она полностью высасывала силы из своих жертв, оставляя пустую оболочку. Это было ее победой. Когда мать бывала одна, она по-прежнему шептала про себя. Непрерывно сновала по дому, словно облаченная в невидимые доспехи, сочленения которых производили эти странные звуки. Она по-прежнему вступала в рьяные споры, дискутировала с кем-то невидимым, мужчиной или женщиной, в полный голос и с использованием весомых аргументов. Вина — о, сколько там было вины! Она не сдавалась, и голос не сдавался тоже. «Я не могу больше!» — рыдала она, если голос получал слишком уж сильный перевес. Или назначал слишком ужасное наказание. Слишком зло унижал. Способы смерти она тоже проборматывала про себя как молитву — еще чаще, чем прежде. Повеситься, спрыгнуть, утопиться: не было вида смерти, который бы отсутствовал в ее списке. О, она, разумеется, по-прежнему считала, что должна забрать ребенка с собой. Ни одна хорошая мать не оставляет своих детей. Ночей она тоже боялась по-прежнему. Она лежала в темноте с открытыми глазами и ждала своих убийц. На нее без слез невозможно было смотреть — комочек грязи, который хотел быть гранитом. Казалось, взять бы молоток, да и разбить эту магнитную гору. На тысячи кусочков, а там, где рот продолжал бы шевелиться, еще пару раз стукнуть. Да, она часто повторяла: «Меня надо прибить до смерти». Смеялась, а в глазах стоял панический ужас. «Сама по себе я не умру». И в самом деле, никогда у нее не было ни гриппа, ни зубной боли. Боли она не испытывала совсем. Не чувствовала ни жары, ни холода. Теперь ее странностью стало то, что она всегда была здорова.
Тянулись дни, летели годы. Деревья вокруг дома так разрослись, что его уже не было видно от садовой калитки. В доме завелась кошка, ловила себе мышей, умерла. Мать ухаживала за садом, в котором росло все меньше овощей и все больше цветов. Декоративные вишни, тюльпановое дерево. И снова сирень. Теперь ей помогал некий господин Йенни, таможенный чиновник, который в свободное время нанимался в дюжину садов в городе и делал свою работу бегом. Поливал цветы, сгребал листья, полдничал. Наверное, он и мочился на бегу, и уж точно при этом еще и разговаривал. Разговоры, да еще быстрота перемещения связывали его с матерью. Она бегала за ним следом — казалось, она гонит его перед собой — и говорила ему в спину, а он отвечал ей через плечо, громко, как трубы Страшного суда. Его звали господин Керн, а не господин Йенни. Они хорошо понимали друг друга, этот господин Керн и мать. Однажды, раскаленным августовским днем, господин Керн бежал с двумя пустыми лейками и матерью за спиной к бочке с водой. Он резко обернулся, и, продолжая бежать спиной вперед, посмотрел на мать огромными, круглыми от ужаса глазами и упал на землю. Мертвым. Собака, Джимми, тоже умерла, а потом и следующая, Валли. Муж матери тоже внезапно умер, вообще-то еще не достигнув возраста, в котором умирают мужчины. Она похоронила его, но не в семейной усыпальнице. Ее отец бы этого не хотел. Много народу пришло на похороны, очень много; большинство из пришедших она не знала. Мать не хотела больше жить вдали от большого дяди из «I Leoni». Она убедила Бориса разрешить ей пользоваться домом из камней в летнее время и выгребла оттуда весь мусор. Все эти пыльные пустые бутылки, разбитые упаковочные ящики, тележные колеса и полозья от саней. Она мыла и мела, пока дом, или, скорее, пещера, не засияла, как во времена негра. Она оставила все таким, как было в его время, во времена погонщика, времена молодости ее отца, готовила при свете свечи и целый день держала дверь открытой, чтобы хоть что-то видеть. Собирала дрова в лесу и колола их на чурбане, стоявшем позади дома. Качала насосом воду. Спала на узеньком матрасе, брошенном на решетку из деревянных планок. Часто, да практически каждый день, она поднималась на гору, устремлявшуюся ввысь прямо перед ней, которую местные называли Il Cattivo, злюка; правда, она никому не причиняла вреда, просто грозила из-под тяжелых облаков, и благодаря случайному расположению каменных россыпей под ее хитрыми глазками вечно сидела кривая ухмылка. Как будто она знает про некую катастрофу, которая случится прямо сейчас, или завтра, или через тысячу лет. Мать так часто поднималась на Il Cattivo, что протоптала тропинку между дверью дома и вершиной. Теперь она каждое лето бывала в доме из камней и уже никогда не ездила в другие места. Позднее ее изгнали и оттуда, когда Борис разорился и ему пришлось отдать «I Leoni» своему злейшему конкуренту. (Анастасия давно исчезла со всеми деньгами, которые он вложил в нее и в янтарную комнату, а злейший конкурент воспользовался неосторожностью Бориса и соблазнил его секретаршу, которая в конце концов навсегда осталась в постели конкурента, прихватив все служебные документы.) Борис попытал счастья как сборщик трюфелей. Но его свиньи ничего не находили или пожирали самые ценные грибы, прежде чем он успевал оттащить их за поводок. Потом он два сезона держал купальню в Нерви. Он был управляющим или чем-то вроде инструктора по плаванию, который еще и продавал лимонад и мороженое. Наконец, сделав последнюю попытку вырваться из нужды, он занялся торговлей недвижимостью. Тогда он снова стал носить с собой повсюду толстые пачки денег — не своих — и нахваливал немцам-инвесторам дома, которые грозили развалиться уже во время переговоров о продаже. Однажды он попал под суд, ему пришлось выступать как свидетелю — речь шла об отмывании денег, — он весь раскраснелся, пот тек ручьями, запутался в бесчисленных противоречиях, но вышел сухим из воды. Тогда он решил вернуться на виллу Домодоссола, в дом из кучи камней, потому что другого дома у него не было. У него ничего больше не было, только его «ягуар», который, добравшись до дома из камней, тоже испустил дух. Сломался бензонасос, а у Бориса не было денег, чтобы заказать новый в Англии. Он и мать в одном доме, — наверное, на пару недель это было можно устроить, но с Борисом была тетя и оба маленьких дяди, которые сразу же по-домашнему расположились во всех углах дома. Мать, ни о чем не подозревая, явилась со всеми пожитками как раз в тот момент, когда дяди все вместе принимались за выпивку по поводу своего прибытия. Тетя смотрела неподвижным взглядом птицы. Борис сожалел, что не может отвезти ее обратно на вокзал: ну как же, ведь насос полетел. Оба дяди стояли, прислонившись друг к другу, и ухмылялись. Мать взяла свой чемоданчик и пошла. Этикетки на нем выцвели так сильно, что только она одна и могла их прочесть. «Сувретта» — далекий образ, «Даниели» — дуновение иных времен. С тех пор она оставалась в своем доме на окраине, даже летом. Дом давно уже стоял не на окраине, его окружили новые здания. На месте пшеничных полей были теперь сады с высокой живой изгородью. Небольшие подъездные дорожки с площадкой для разворота. Раза три-четыре она не выдерживала и отправлялась в психиатрическую клинику, которую никогда не называла психиатрической клиникой. Она говорила — санаторий. Каждый раз это был другой санаторий. Университетская клиника, Хайлигхольц, Зонненберг. Ее лечили лекарствами, от которых она становилась тихой. Бессловесной. Не очень твердым шагом ходила по посыпанным гравием дорожкам. Скорее даже не ходила, а парила, глаза ее проплывали мимо глаз тех, кто пришел ее навестить. Электрошока она больше не получала. И по-прежнему не могла плакать — никогда, ни слезинки. Она посещала каждый концерт «Молодого оркестра». И все больше походила на королеву в изгнании, Queen mother, напудренная добела дама со строгим очарованием. Концертами она наслаждалась и присутствовала при всех памятных событиях. «Жанна на костре» Артура Хонеггера! «Идоменей», удивительно серьезный Эрнст Хэфлигер! Шёнберговский «Лунный Пьеро». Все новые, например Вольфганг Фортнер! Штокхаузен! Кельтерборн! Вильдбергер! И Барток, вновь и вновь Барток. Ах, как они были прекрасны, эти концерты «Молодого оркестра». Потом наступил день рождения, когда Эдвин не прислал орхидею. Никакой карточки с надписью фиолетовыми чернилами «Всего доброго, Э.». Мать стояла у окна и неподвижно смотрела на садовую калитку. Этот день, этот день рождения, был страшным, просто ужасным днем, самым плохим за долгие-долгие годы. Еще позже она стала вытворять странные вещи. Она, уже старая дама, присела отдохнуть на рельсы пригородной железной дороги. Машинист остановил поезд — участок дороги был хорошо виден — и помог матери взобраться на насыпь. Она радовалась его помощи и смеялась. Теперь она снова стояла у озера и время от времени забредала в него; хотя никогда не заходила так далеко, как раньше. Она переходила улицу где и когда хотела, не глядя по сторонам. Скрежет тормозов, сигналы машин, лязг металла и звон стекла не выводили ее из равновесия. Став глубокой старухой, она начала путешествовать — чем опаснее, тем лучше — и ездила, например, автобусом по всей Восточной Турции. Один раз всем пассажирам пришлось прятаться за земляным валом, потому что турки стреляли в курдов, или наоборот; во всяком случае, поверх их автобуса. Мать присела на корточках рядом с молодым, побелевшим как мел мужчиной и подмигнула ему. Еще она была в Нью-Йорке и каждый день, надев ботинки, выглядевшие как утиные лапы, и непромокаемую куртку, отправлялась исследовать Бронкс, Бруклин или подземку. У нее всегда в правом кармане куртки лежала десятидолларовая бумажка — на случай, если на нее нападут. Тогда бы она произнесла фразу, которую тщательно отрепетировала: «There you go, young man! [21]» и дала бы ему деньги. Но на нее никогда не нападали. Однажды в Гарлеме она пила чай, стоя у стойки бара на одной из соседних с Третьей авеню улиц. Это было кафе для гомосексуалистов, для черных гомосексуалистов, и мою мать обслуживали, очень веселясь. Ее английский звучал так, как ее учитель представлял себе оксфордский английский. «There you go, young man!» — сказала она, расплачиваясь.