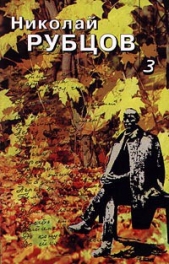Проза и эссе (основное собрание)

Проза и эссе (основное собрание) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ибо источник могущества памяти (часто затмевающей для нас самоё реальность) -- это ощущение незавершенного дела, ощущение прерванности. Это же ощущение лежит и в основе понятия истории. Память, по сути, есть продолжение того самого дела -- будь то жизнь вашей возлюбленной или политика какой-нибудь страны -- другими средствами. Отчасти из-за того, что мы знакомимся с мифами в детстве, отчасти из-за того, что они принадлежат древности, они составляют неотъемлемую часть нашего частного прошлого. А наше прошлое обычно вызывает у нас либо осуждение, либо ностальгию -поскольку нами уже не командуют ни упомянутые возлюбленные, ни упомянутые боги. Отсюда и власть мифов над нами, отсюда их размывающее воздействие на наши собственные воспоминания; отсюда, как минимум, и вторжение автопортретных выразительных средств и образности в разбираемом стихотворении. "Тупое нетерпенье" -- хороший тому пример, поскольку автопортретный образный строй, по определению, не может не быть нелестным.
Итак, перед нами начало стихотворения на мифологический сюжет, и Рильке выбирает, здесь игру по правилам античности, подчеркивая одномерность мифологических персонажей. В целом, изобразительная формула в мифах сводится к принципу "человек есть его назначение" (атлет бежит, бог поражает, боец воюет и т. п.), и каждого определяет его действие. Было так не потому, что древние, того не подозревая, были последователями Сартра, а потому что в те времена все изображались в профиль. Ваза или, если на то пошло, барельеф плохо пригодны для передачи неоднозначности.
Так что если автор изобразил Орфея столь поглощенным одной целью, то это вполне соответствует изображению человеческой фигуры в искусстве древней Греции: потому что на этой "единственной тропе" мы видим его в профиль. Намеренно или не намеренно (в конечном счете, это несущественно, хотя и соблазнительно приписать поэту скорее больше, нежели меньше) Рильке исключает любые нюансы. Поэтому мы, столь привычные к разнообразным -- в общем, стереоскопическим избражениям человеческой фигуры, находим это первое описание Орфея нелестным.
XVI
И поскольку дальше дело не улучшается: "Его шаги пожирали дорогу крупными кусками, не замедляя ход, чтоб их пережевать", -- то давайте скажем здесь нечто в полном смысле банальное. Давайте скажем, что в этих строках наш поэт действует, как археолог, снимающий отложения веков, слой за слоем, со своей находки. Поэтому первое, что он видит, глядя на эту фигуру -- это что она в движении, -- что он и отмечает. Чем чище становится находка, тем больше проявляется психологических деталей. Столь низко уронив себя таким банальным сравнением, давайте вернемся к этим пожирающим путь шагам.
XVII
"Пожирать" значит жадно поглощать пищу и обычно так говорят о животных. Автор прибегает здесь к этому образу не только чтобы описать скорость движения Орфея, но и чтобы навести на мысль об истоках этой скорости. Здесь явно -- намек на Цербера, трехглавого пса, сторожащего вход в Аид (равно как и выход, нужно добавить, поскольку это одни и те же ворота). В тот момент, когда мы видим Орфея, он находится на обратном пути из Аида к жизни, а значит, он только что видел чудовищного зверя и наверняка преисполнен ужасом. Поэтому скорость его движений объясняется в равной степени желанием как можно скорее вернуть к жизни свою любимую жену и желанием уйти как можно дальше от этого самого пса.
Используя этот глагол в описании движения Орфея, автор дает понять, что ужас перед Цербером превращает и самого пра-поэта в некое животное, то есть лишает его способности думать. "Его шаги пожирали дорогу крупными кусками, не замедляя ход, чтоб их пережевать" -- замечательная фраза хотя бы потому, что она несет в себе намек на подлинную причину, по которой миссия героя кончилась неудачей, а также и на смысл божественного запрета: не оборачивайся назад -- не поддавайся страху. Другими словами, не разгоняйся.
Опять же, у нас нет причин предполагать, что когда автор начинал это стихотворение, он заранее решил расшифровать в нем главное условие этого мифа. Скорее всего, это пришло интуитивно, в процессе сочинения, после того как его перо вывело слово "пожирали" -- это вполне обычная интенсификация речи. И тут вдруг все встало на место: скорость и страх, Орфей и Цербер. Вероятнее всего, эта ассоциация лишь мелькнула у него в голове и определила дальнейшее отношение к нашему пра-поэту.
XVIII
Ибо возникает ощущение, что страх буквально преследует Орфея, как гончий пес. Через четыре с половиной строки, которые теоретически чуть увеличивают расстояние между Орфеем и источником его страха -- этот пес до такой степени берет над ним верх, что наш герой даже физически, внешне приобретает его черты:
Казалось, его чувства раздвоились:
ибо, покуда взор его, как пес, бежал впереди,
поворачивался, возвращался и замирал, снова и снова,
далекий и ждущий, на следующем повороте тропы,
его слух тащился за ним, как запах.
В этом сравнении по сути дано приручение страха. Теперь наш археолог снял последний слой почвы со своей находки, и мы видим состояние Орфея: он в панике. Его взор, как челнок бегающий взад-вперед, хоть и верно ему служит, однако компрометирует и его продвижение и его назначение. Но при этом наш песик забегает гораздо дальше, чем кажется поначалу, -- ведь слух Орфея, который отстает от него, как запах, это еще одно ответвление того же самого собачьего сравнения.
XIX
Надо сказать, что вне всякой связи с эффектом, которого достигают эти строки в изображении душевного состояния Орфея, механизм, определяющий сдваивание в них его чувств (зрения и слуха), имеет и сам по себе большое значение. Его можно отнести на счет выпирающих рифменных мышц поэта, но это будет лишь часть правды.
Ибо другая ее часть имеет отношение к природе стиха как такового, и чтобы в этом разобраться, нам нужно проделать обратное путешествие по времени. А пока позвольте мне обратить ваше внимание на великолепную миметическую беглость строк, о которых идет речь. Вы согласитесь, что беглость эта прямо пропорциональна способности нашего песика носиться взад-вперед. Как справедливо заметил И. А. Ричардс, это маленькое четвероногое выполняет здесь роль "проводника".5
Однако опасность удачной метафоры заключается как раз в способности такого проводника целиком поглотить содержание (или же наоборот, что бывает реже) и запутать автора, не говоря о читателе: что' чем определяется? А если проводник -- четвероногое, то он очень быстро сообщение заглатывает. А теперь давайте проделаем обратное путешествие по времени.
XX
Не слишком далеко: примерно в первое тысячелетие до Р. Х., а если вам нужны точные координаты, то в седьмой век этого тысячелетия.
В этом именно веке стандартная греческая форма письменности называлась "бустрофедон". Буквально это слово значит "бычий ход" и означает форму письма, которое похоже на пахоту, когда плуг, достигнув конца поля, разворачивается и движется в обратном направлении. На письме это означает строку, которая бежит, слева направо, затем, достигнув поля, поворачивается и бежит, справа налево, и т. д. Бо'льшая часть написанного в тот период по-гречески была написана в этой, я бы сказал, бычьей манере, и остается только гадать, был ли термин "бустрофедон" современником этого феномена или же он был пущен в оборот post factum или даже в предчувствии оного? Ибо определения, как правило, говорят о присутствии какой-то альтернативы.
Бустрофедон сложился, как минимум, из двух способов письма: еврейского и шумерского. Еврейское письмо шло, как и сегодня, справа налево. Что до шумерской клинописи, она шла, в основном, так же, как мы пишем сейчас: слева направо. Не то чтобы какая-то цивилизация выбирает, у кого бы позаимствовать письменность, но существование термина выявляет осознанное отличие, к тому же весьма красноречивое.