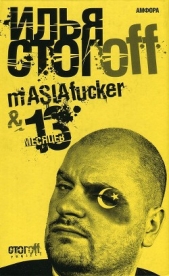Имя твое

Имя твое читать книгу онлайн
Действие романа начинается в послевоенное время и заканчивается в 70-е годы. В центре романа судьба Захара Дерюгина и его семьи. Писатель поднимает вопросы, с которыми столкнулось советское общество: человек и наука, человек и природа, человек и космос.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Николай вяло поковырял вилкой, разворотив толстого икряного карася на две половины, стараясь ни на кого не глядеть и в то же время болезненно воспринимая любой знак внимания к себе, сердясь на Тимофеевну, то и дело подкладывающую ему в тарелку и назойливо напоминавшую, чтобы он ел.
– Ну, Никола, – услышал он внезапно голос отца, – чего матери-то передать? Что ты все молчишь?
Николай вздрогнул, поднял глаза; и, как это часто бывает, он мгновенно, без всякого перехода, понял, что этот хмурый, немногословный человек связан с ним какими-то особыми узами и что отец все это время, словно в открытой книге, читал все происходящее в его душе и все понимал и прощал. Николай почувствовал, как отчаянно горит лицо; все, что он знал, все его книжные мудрости (до этого момента он мог всегда спрятаться за ними) растаяли, и он остался наедине с тем непонятным, чего он и обозначить словом не мог; он только знал, что соприкоснулся с неизвестной до сих пор силой, и она принесла неведомое ему раньше острое, почти физическое облегчение. Ему захотелось признаться в этом отцу, но он побоялся расплакаться и, подняв потемневшие глаза, сказал неуверенно:
– Что передать? Здоров, учусь… Ну, и все остальное. Все хорошо. Как достану гильзы, сразу пришлю или с кем-нибудь передам.
– Какие гильзы? – заинтересовался Брюханов.
– Егор у нас охотой баловался, – пояснил Захар. – Ружье у него, тулка… Ну, и я иногда поброжу…
– А помнишь, Захар, лесника Власа с Демьяновского кордона? Зайцев было…
Николай впервые увидел на лице отца широкую, свободную улыбку, отец словно бы помолодел, и Николай увидел, что он далеко не стар еще и красив какой-то особой, наполненной, спокойной, все понимающей красотой.
– Было, да сплыло. Кругом да около чего ходить, – сказал Захар, все так же открыто, дружелюбно глядя на сына. – Тут вот мы о тебе говорили, Никола, Тихон Иванович, значит, все нам обрисовал… Что ты сам-то решил?
– Что бы ты, отец, на моем месте решил? – спросил Николай, с облегчением произнеся впервые в общении с Захаром это трудное для него слово «отец» и как бы окончательно разрушая прежнюю преграду между ними. И Захар с благодарностью, ни от кого не скрываясь, посмотрел на сына, и в этом взгляде было столько неожиданной горячей радости, что Николай, может быть, впервые в жизни ощутил удивительное чувство открытия добра, которому он сам был причиной; но тут же весь внутренне сжался, настолько сидевший напротив него человек был богаче, щедрее его самого душой, и было с ним рядом и хорошо, и трудно; он понял, что его всегда теперь будет тянуть к этой неосознанной глубине, в которую он неожиданно, слегка только заглянул, и всегда теперь будет не хватать ее. Ничуть не смущаясь присутствия Брюханова и Тимофеевны, Захар тяжело шлепнул ладонью по столу.
– Эх, все-таки хорошо жить, мужики! Эх, оскомипа! В этом деле какой я тебе советчик, Коля. На твоем месте мне уже не быть, у меня за плечами своя грамота… Два класса, Тихон вон знает…
– Ну, при чем здесь это! – горячо возмутился Николай.
– А для тебя-то самого будет от Москвы польза?
– Еще бы! – Николай удивленно взглянул на отца. – Наука так стремительно развивается, быть в центре новейших идей, теорий, споров… Лапин – это самый передовой рубеж.
– Тогда думать нечего, езжай! – решительно сказал Захар. – Не я виноват, что ничего не могу тебе присоветовать, на общую храмину всю жизнь горбил… Вот и сейчас, что я могу? Знаешь, Никола, я сюда как на казнь ехал… Вот он, Тихон, сидит, мне до него как до горы недоступной… Ну, и все прочее у нас перемешалось… Боялся с ним сойтись глаза в глаза… а сошелся, ничего. Глянули друг на друга, все на места стало. Жизнь в чем-то, может, и короткая, а в другом – длинная, конца ее не увидишь. Не бойся в самую глубь заглянуть…
Захар замялся, всеобщее молчание смутило его, но по молодым, блестящим, внимательным глазам Николая он понял, что именно этот его разговор самый нужный сейчас и что все, даже Тихон, ждут, что он скажет дальше.
– Да и сейчас было трудно, – продолжал он, – а вот не поддался, не шарахнул в кусты, наступил себе на горло, вроде легче стало, точно чиряк в душе прорвался. Сказать не могу, что я понял, но знаю – понял, и баста. Ведь мы с ним в молодости-то чего не делали, а теперь у него от моей Аленки – дочка. Как же это так, думаю, никак этого в толк не возьму… И прибить его нельзя – больно начальник большой, в Сибирь куда-нибудь загремишь. А как сошлись глаза в глаза, понял я, нет в этом деле одинаковой мерки для всех и никогда не будет. Не надо ее, одинаковой для всех, преснятина тогда получится, не жизнь. Вроде стало мне ясно, почему Аленка к нему потянулась.
Брюханов сидел, все так же нагнув голову и сцепив пальцы, молча, не шевелясь слушал.
– Уж не мне судить, – сказал Захар. – Может, поймешь, Николай, может, не поймешь пока, только в главном не промахнись, ближе к самой середке решай… Жизнь свою решай… А то так и уйдет все мимо, сквозь пальцы, из-за какого-то дурацкого гонору. Человек, он такой, ты его царапни чуть-чуть по коже, век будет помнить свою царапину… Сам голову другому завернет под мышку и поздравствуется еще на полном серьезе. Поезжай, сынок, ты этому человеку поверь. Ты свой путь случаем стороной-то не обколеси, вот что тяжко потом… горше ничего нет – жизнь проморгать… А мне тебе, сын, надо еще только одно сказать, вон при нем сказать, чтобы он, мой старый дружок, слыхал. Можно?
– Давай, отец…
– Шибко высоко залетишь, гляди, сын, чтобы люди на земле не показались тебе козявками, как оно часто бывает, По-всякому бывает, и так… Занесет кого буря из куриного выводка в поднебесье, а он и в самом деле думает, что орел… эх, как заклекочет! – Захар несколько раз ткнул указательным пальцем в пространство над собой. – Смех и грех! Думает, что вся жизнь от него, что он над нею главный распорядитель. А жизнь-то вся тут, тут идет, – палец Захара, резко переместившись, указывал теперь себе под ноги, словно не в паркетный, вылощенный усилиями Тимофеевны пол, а в дремучую глубь земли, и Николай даже ощутил сейчас ее ни с чем не сравнимый, душный и тяжкий зов, какой-то таинственной дрожью отдавшийся во всем его существе. – Земля, она сама себе закон творит, а поверху всего лишь отголосок разносится, вот что ты, сын, помни, на какую бы высоту тебя ни занесло…
«Это он все для меня, для меня старается, – подумал Брюханов. – Пусть его, это хорошо, что он так разговорился, значит, душу окончательно отпустило. А я помолчу…»
Николай поднял голову, глаза его были влажны, он с усмешкой и грубоватой нежностью смотрел то на отца, то на Брюханова. Слова не шли, да и не нужно было слов; необходимая сейчас горечь легла на сердце трепетным, горячим покровом; Николай любил этих людей, именно любил, раньше такого с ним не было. Он хотел сказать об этом так же свободно и смело, раскрыть себя перед ними без утайки, как сделали это они раньше, и не смог, все-таки не смог, и от этого почувствовал себя по-детски беспомощно, неуютно и неловко отвернулся. Затем сам себе налил водки и, пожелав всем здоровья, выпил.
– Ахти мне! – испугалась Тимофеевна. – Заболеет малый… Да ты, видать, не в те двери сегодня прошел, а? Господи помилуй…
Захар с Брюхановым переглянулись и дружно расхохотались.