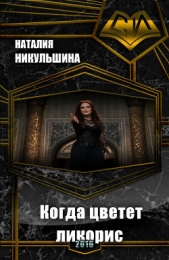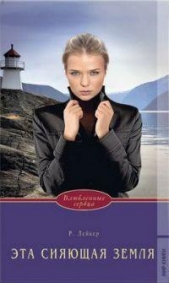Идет, скачет по горам

Идет, скачет по горам читать книгу онлайн
Ежи Анджеевский (1909–1983) — один из наиболее значительных прозаиков современной Польши. Главная тема его произведений — поиск истинных духовных ценностей в жизни человека. Проза его вызывает споры, побуждает к дискуссиям, но она всегда отмечена глубиной и неоднозначностью философских посылок, новизной художественных решений.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Разумеется.
И тогда Ортис совсем уже по-земному и неофициально, хотя и освящая своим вопросом персону деда:
— Как дедушка?
— Без перемен.
— Вот и хорошо! если без перемен, можешь не волноваться. Наше поколение — народ крепкий, костлявая относится к нам с надлежащей почтительностью и знает свое место. Все будет хорошо, увидишь.
Джулио с улыбкой кивает.
— Я тоже так считаю, мсье.
— Ну, веди! Найдется там еще для нас местечко? Поль, ты лучше меня знаешь поэзию. Откуда это: в свой срок должны все реки излиться в океан!
И Аллар, наделенный способностью думать о нескольких вещах сразу, не прекращая строить туманные предположения, связанные с особой молодого Барба, незамедлительно отвечает:
— Зачем с бесплодным пылом в судьбе искать изъян… так?
— Ты, как всегда, на высоте! Кто это?
— Суинберн.
— Ну конечно, — говорит Ортис и, продолжая придерживать Франсуазу за локоть, шепчет: — Я тебя люблю, Франсуаза.
А поскольку эта сцена, быть может, не совсем отвечающая букве официального ритуала, однако же в силу своей загадочной сути соответствующая духу литургии, разыгрывается буквально на пороге храма, и Джулио, как и подобает юному глашатаю благой вести или причетнику, в благоговейной сосредоточенности шествующему впереди его преосвященства, уже переступил этот порог, вступление божества в святыню на глазах хора избранных солистов занимает всего лишь секунду и, следовательно, тут же становится свершившимся фактом, на удивление конкретным и земным, а значит, уникальным и необратимо-неповторимым: божество со своей возлюбленной, поддерживаемой за локоть божественной десницей, вступает в храм, и факт этот, обретя уникальное и необратимо-неповторимое земное воплощение, тотчас вслед за тем преисполняется сакральной торжественности, ибо хор избранных солистов, избранных представителей паствы, которым несколько дней назад вместе с пригласительным билетом было вручено богемно-светское «ius primae noctis», итак, хор первых свидетелей художественной беатификации, до отказа заполнивший оба небольших зала галереи, однако в первом зале из уважения к объекту канонизации выстроенный, а вернее стиснутый так, чтобы у входа осталось немного свободного пространства, весь этот хор блестящих, знаменитых, титулованных, влиятельных и могущественных при виде своего первосвященника ритуальным жестом возносит ладони и принимается аплодировать, и, хотя каждая и каждый делают это в меру своих сил, чувств и темперамента, в результате, должным образом подкрепленные жизненными соками могучей народной стихии, раздаются дружные рукоплескания — как говорится, бурные аплодисменты, переходящие в овацию.
— Генрик! — шепчет Марек Костка Мильштейну.
— Что?
— Ущипни меня.
— Ты что, рехнулся?
— Нет, но сейчас рехнусь. Скажи, это настоящий Гете?
— Кто?
— Гете. Вон тот тип спереди, слева.
— Ты обещал позвонить, — говорит хорошенькая изящная девушка, единственная наследница крупной автомобильной фирмы.
— Кто эта седая маркиза? — спрашивает Жан Клуар.
Шепот девушки превращается в шипение:
— Почему ты не позвонил?
Старый сластолюбец, думает Поль Лоранс, и всегда был сластолюбцем, жадно поедающим все, что ни подвернется, женщин, деньги, славу, шедевры, вся его живопись — блевотина человека, обжирающегося деликатесами; ох, здесь ужасно душно, убеждается Джеймс Ротгольц, владелец большой галереи в Нью-Йорке, ему трудно дышать из-за мучительной эмфиземы легких, а так как он пришел сюда одним из первых и успел спокойно посмотреть все картины, а также определить их уровень и цену, то сейчас с нетерпением ждет, когда закончится этот фарс и можно будет приступить к делу, если б у этого старого повесы было хоть чуточку поменьше денег! ну конечно Суинберн, думает Ортис, сохраняющий неподвижность и великолепнейший суверенитет среди фимиама аплодисментов, продолжая сжимать локоть Франсуазы, который в эту минуту, кажется, легонько вздрагивает, в свой срок должны все реки излиться в океан… и, поскольку слух у него отличный, мгновенно улавливает, что аплодисменты, хотя и попрежнему бурные, несколько все же ослабевают. Поэтому, отпустив на секунду локоть Франсуазы и приложив левую руку к сердцу, он отвешивает собравшимся низкий, почти холопский поклон. Стихшие для чуткого уха аплодисменты в ответ на такое проявление благодарности перерастают в мощный возвышенный хорал, после которого может наступить уже только тишина, и она действительно наступает, так как божественный выпрямляется и, когда становится тихо, произносит:
— Благодарю, я тронут.
После чего, уже более интимным тоном, однако достаточно громко, чтобы хор его услышал, говорит, обращаясь непосредственно к Аллару, но так подкрепляя свои слова жестом, поворотом тела и взглядом темных, молодо сверкающих глаз, что каждый из стоящих вблизи вправе подумать, будто именно ему мэтр как драгоценную реликвию поверяет свою мысль.
— Однако же искусство недурная штука, — говорит Ортис, — смотри, сколько раз можно благодаря ему терять девственность. Даже в моем возрасте!
— В твоем возрасте? — восклицает Аллар, точно престидижитатор превращая реликвию в пинг-понговый мячик. — И ты осмеливаешься говорить о возрасте? Да у тебя, дорогой Антонио, вообще нет возраста — разве способна однозначащая цифра вместить в себя совокупность всех возможных людских возрастов? Вот наш друг Лоранс, к примеру, — зрелый мужчина в расцвете сил, этот юноша, — Аллар указывает на застывшего в благоговейной сосредоточенности Джулио, — молодой человек, а эта прелестная барышня, — продолжает он, одновременно, будто с помощью скрытого в глубине глаз радара, вылавливая из моря разнообразнейших голов голову Клуара, — эта поистине очаровательная барышня, имени которой я по понятным причинам не стану называть, — юная дева, каждый из нас свое прожил, можно, разумеется, порой тем или иным способом улизнуть от своего возраста, но увы! это всего лишь кратковременные вылазки в прошлое или будущее, недолгие, хотя подчас и восхитительные прогулки, которые нам вскоре приходится прерывать, подчиняясь неумолимым законам истинного возраста. И тем не менее я готов присягнуть, Антонио, что над тобой…
— Генрик, — говорит довольно громким шепотом, к счастью по-польски, Марек Костка, — этот тип заводной? Не лягайся, а лучше удовлетвори мое славянское любопытство. Я спрашиваю: этого типа перед выходом на люди заводят?
— …над тобой, Антонио, — Аллар в параллель широкому жесту чуть повышает голос, — эти законы не властны. Ничего не поделаешь, изволь смириться с тем, что не имеешь возраста, — тебе принадлежат все возрасты разом.
— Это ужасно, Поль, — отзывается Ортис, — может, ты по крайней мере от младенчества меня избавишь?
— Ни за что! — энергично отбивает мячик Аллар, — хотя бы потому, что из всех последовательных фаз человеческого развития младенчество — наиболее загадочная пора. Я бы отдал все свои книги за одну-единственную, написанную глазами, слухом, чутьем и осязанием младенца. Какой же это невообразимый, непостижимый мир! Не исключено, что он ближе к естественному состоянию вещей, нежели тот хаос, который мы тщимся упорядочить в зрелые годы. Нет, Антонио, ты сам прекрасно знаешь, что наряду с прочими сосунковое состояние тебе не чуждо и чуждым быть не может.
Ортис чувствует, что нужно чем-то отплатить за этот дар — порождение дружеских чувств и игривого остроумия — но ничего в равной степени остроумного ему в голову не приходит, так как в этот самый момент соответствующие клетки его серого мозгового вещества воспроизводят образ мальчугана, читающего книгу на пляже, ах, вот откуда этот Суинберн, из «Мартина Идена», осеняет его, и, маскируя рефлекторное удивление непринужденной улыбкой, он говорит:
— Боюсь, что ты прав. Мне именно сейчас кое-что вспомнилось, правда, не из сосункового, как ты замечательно это назвал, периода, но во всяком случае из эпохи достаточно отдаленной, чтоб ее можно было окрестить доисторической. Поль, а эти реки вместо того, чтобы излиться в океан, не возвращаются, случайно, к истокам?