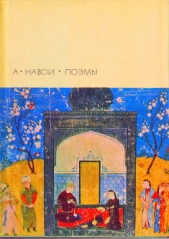Весна в Ялани

Весна в Ялани читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Серёга, лицом – и ты, наверное, заметил, взводный, – очень похожий на Юрия Гагарина, с ямочками на щеках и подбородке, улыбчивый, смешливый, лежит на сложенном вдвое персидском ковре, сверху накрытый бурой дублёнкой, которую достал я из шкафа с оторванной дверцей, – валялась там, а не висела, дублёнка эта. На левой ноге у Серёги шина из лакированных подлокотников разломанного Васькой кресла. Васька и шину наложил, скрепив её смотанной с приклада автомата синей изолентой. Молчком лежал, с закрытыми глазами Серёга. Может – в сознании, а может – нет. Теперь вот смотрит. Улыбается. Философ. Или филолог, точно не скажу. Полез зачем-то он в карман дублёнки, вынул оттуда сложенный вчетверо белый носовой платок. Понюхал. Дорогим одеколоном, сообщил нам, пахнет; из другой, мол, жизни, добавил.
Васька сказал: сдаваться будем, дескать, пригодится.
Я – ноги вытянул и положил на них «калаш», – подстелив под себя стопку арабских, как нам Серёга объяснил, журналов, ваххабитских, сижу на полу, к стылой стене спиной, уши у шапки опустил и воротник поднял, но всё равно трясусь от холода. Слева окно, без рамы и без стёкол. Снежинки редкие заносит в комнату. Свет заслоняет БМП. И уже сумерки спускаются на город – на поле боя. Вспоминаю со злостью на себя, что заметил три дня назад, пробегая мимо, на невысоком бетонном столбике какой-то ограды краюху хлеба, поклёванную вороной или воробьями, очень теперь жалею, что не схватил её, краюху эту, и не прибрал в карман бушлата – тогда был сытый.
Вот, дурак.
– Пишется через о, – сказал Серёга.
– Умный! Какая разница, как пишется, важно, как есть, – ответил Васька. Ушёл в угол, присел там, рядом с Серёгиным пулемётом, на корточки, пристроиться так любит. И на рыбалке так сидит обычно, перед удочкой – чтобы, как клюнет, сразу выдернуть, а не бежать откуда-то к ней. И когда курит. Полдня так может просидеть, и не устанет, и ноги у него не онемеют, не затекут, как говорят в Ялани.
Они – что здесь, что в Африке – такие: пидарасы… хоть через «о», хоть через «а» их напиши.
Хочется есть. Хочется пить. Хочется спать. Хочется дома оказаться как по мановению… в Ялани. До Половинки бы пройтись… Сейчас там белый, рыхлый снег, не то что тут – слякоть и сажа…
Грады провыли.
Где-то поблизости со свистом пролетела мина, отправленная, похоже, из стодвадцатки, недалеко от нас где-то и бухнула, наткнувшись на мишень, вряд ли случайную – такую зря не запускают. Пол в доме дрогнул; вздрогнул я, из путешествия вернувшись…
И тут же, через несколько секунд, весь город охнул тяжело. Уже не город, а развалины – как простонали.
От близкой молнии как будто ослепило; от грома близкого как будто оглушило. И потолок на нас стал обрушаться…
Господи, Господи, Господи, Господи – как прострочило. Так я подумал. Или закричал. А может, голос матери услышал. Рядом мы с ней как будто оказались. Душа к душе. Как прислонились. Я: где ты, где ты?! Никого. Я: мама, мама… Пусто, пусто.
Это я помню.
И как чужое, не своё: я будто вскидываю руки… и пальцы светятся, как свечки, – я будто вижу, но не задуваю.
А после – чёрное отсутствие. И в нём ни проблеска, ни звука. Ни чувств, ни мысли. Ни внутренних, ни внешних ощущений. Так, может, глина или камень пребывают, глухо предчувствуя себя. Или как ноль – предчувствуя число.
Спрашивала меня как-то Светка, видел я что-то там или не видел? Нет, ничего. Я так ей и сказал. Меня как не было.
Никак. Нигде.
И будто не было всего, мир ещё будто не родился… или погиб уже, исчез беследно.
Смерть вот такая же, наверное: снаружи чёрное, глухое изнутри. И не она ли про себя порой тебе нашёптывает: я – это хорошо, я – отдых и покой? Бывает так, что хочется поверить ей, и ты готов уже с ней согласиться. Но не об этом.
Только потом – я не о времени, а о событии – чувствую, осознаю ли, но не из себя будто, а откуда-то извне, сверху, от разрушенного потолка, с болтающимися в проломе обоями, просто ли наблюдаю, как ты, взводный, успокаивая добрым матом, раньше я от тебя не слыхивал такого, тянешь из-под бетонных обломков меня, а я – как пластилиновый. Сначала – за одну руку, она оторвалась, как отрывается кусок от пластилина. Потом – за ногу, и та оторвалась. Потом – за другую ногу, потом – за другую руку. За каждый палец. Обрывая их, как листья жухлые от ветки, как от ромашки лепестки ли. И голова оторвалась… Всё вроде было по отдельности. Только потом как будто совместилось.
Потом – нескоро.
После непроницаемого чёрного отсутствия. Когда я смог подумать: я. Когда едва словно засветился. Искра во мне как будто заронилась. Или – в меня посеял кто-то семя, и оно стало прорастать.
Я, опустившись сверху, стал в себя, лежащего, как будто втискиваться. Я, разделённый, стал одним.
Но что-то от меня осталось под бетонными обломками, и тому чему-то сделалось больно, так нестерпимо, что завыло то, что там осталось, как собака… А я опять как в пустоте, в чёрном отсутствии, меня опять вроде не стало.
Нигде, никак.
Как будто свет и звук повсюду выключили, а заодно уж и меня, и я подумать было уже некому, и ты сказать кому-то – также…
Это потом уже узнал я, что ты, взводный, волоком нас – меня, Ваську, который тоже потерял на какое-то время сознание, по голове его так крепко тяпнуло, что отключился, и Серёгу – по очереди, не в абсолютной тишине, не в совершенной темноте, под всполохи разрывов, трассеров и ракетниц, доставил до санчасти. Сдал нас по счёту. Погиб ты. По-настоящему погиб. Не только был похожим на погибшего. Через три дня после этого и после, значит, Рождества. Загородив собой какого-то мальца от автоматной очереди, свинца тебе как будто не хватало – и грудью выхватил его из воздуха, теперь хватает – с грузом таким не побежишь, не полетишь, лежать уж только да обдумывать – на это вечность.
Это мне Васька после рассказал, уже в Ялани.
Не видел я тебя убитым, и для меня живой ты. Так для меня живые многие, кто уже мёртв. Вот я и думаю, что смерти нет. В каком-то смысле.
Вот ты – вижу. Слышу… но не повторю. Во мне ругайся. Громко. На меня. Стерплю я, взводный: по заслугам.
У Бога нет мёртвых, говорит мать, все у Него живые.
Понимаю.
Или чувствую.
Ему, Ваське, на левой руке три пальца отдавило – отрезали их, теперь культяпистый, да ещё ухо отодрало – то пришили, чуть оттопырено теперь. Серёга умер там ещё, в санчасти. И это после я узнал. Скорее – понял.
А я вот выжил. Жить за других теперь приходится. Пытаюсь. Любить и тех, кто их любил, кого они в ответ любили. Пусть и заочно, представляя. Я так теперь произношу:
И тех, и этих, Господи, помилуй.
И мать мне вторит.
Это потом уже узнал я, что сначала меня и других раненых отправили на вертушке в Моздок. Вертушку сбили. Кто был совсем живой, погибли, а кто, как я, был почти мёртвый, тот уцелел – лишь откатился. Нас подобрали наши. Я оказался в Краснодаре. Всё это делал кто-то за меня. Зачем-то делал? Я был, как срубленное дерево, – просто лежал, и меня можно было, как бревно, перекатить, перетащить или на части распилить – не закричал бы, не заплакал, хоть и почувствовал бы, может, – на что-то ж дерево способно, пока не сгнило.
Где-то пропали документы. Мои. Военный. Или ещё там, в санчасти, которую разбомбили. Или сгорели в вертолёте. Не переслал никто их мне по почте после. Долго потом пришлось доказывать, что я есть я. Но не о том тут, не про это…
Родных у Серёги не было, он сам об этом нам рассказывал, искать некого, хожу к нему теперь вот на могилу – она у нас тут, в Елисейске. Я думаю, что это он здесь с почестями захоронен. Да и не думаю, а чувствую.
И он, и я – так получилось.
Не он, конечно. Что-то от него. Он сейчас – где-то. Если философ – философствует, если филолог, то… чем занимаются они, не знаю. И я с ним рядом – по ошибке. Имя моё здесь было выбито. Так и осталось…