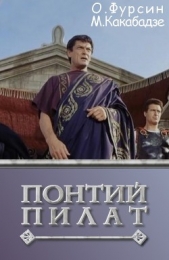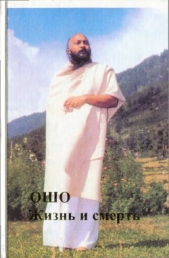Понтий Пилат. Психоанализ не того убийства

Понтий Пилат. Психоанализ не того убийства читать книгу онлайн
Более чем неожиданный роман о Понтии Пилате и комментарии-исследования к нему, являющиеся продолжением и дальнейшим углублением тем, поднятых в первых двух «КАТАРСИСАХ». (В комментариях, кроме всего прочего, — исследование образа Пилата в романе Булгакова "Мастер и Маргарита".)
Странное напряжение пульсирует вокруг имени "Понтий Пилат", — и счастлив тот, кто в это напряжение вовлечён.
Михаил Булгаков подступился к этой теме физически здоровым человеком, «библейскую» часть написал сразу и в последующие двенадцать лет работал только над «московской» линией. Ничто не случайно: последнюю восьмую редакцию всего лишь сорокадевятилетний Булгаков делал ценой невыносимых болей. Одними из последних его слов были: "Чтоб знали… Чтоб знали…" Так беллетристику про любовь и ведьм не пишут…
Так что же такого недоступного остальным, работая над «московской» линией, познал Булгаков? И в чьих руках была реальная власть, раз Михаила Булгакова не смог защитить даже покровительствовавший ему Сталин? Трудно поверить, что до сих пор никто зашифрованного в романе Тайного знания понять не смог, потому напрашивается предположение, что у понявших есть основания молчать.
Грандиозные же орды булгаковедов по всему миру шуршат шелухой, не в состоянии подтянуться даже к первоначальному вопросу: с чего это Маргарита так ценила роман мастера? Ценила настолько, что мастер был ей интересен только постольку поскольку он пишет о Понтии Пилате и именно о нём? Мастер ревновал Маргариту к роману — об этом он признаётся Иванушке. Мастер, уничтожив роман, чтобы спасти жизнь, пытался от Маргариты бежать, но…
Так в чём же причина столь мощной зависимости красивой женщины, королевы шабаша, от романа? Те, кому посчастливилось познакомиться с любым из томов "КАТАРСИСа" и кто, естественно, не забыл не только силу потрясения, но и глубину заложения к тому основания, верно, уже догадался, что ответ на этот вопрос — лишь первая ступень…
Читать "КАТАРСИС" можно начинать с любого тома; более того, это еще вопрос — с какого лучше. Напоминаем: катарсис — слово, как полагают, греческого происхождения, означающее глубинное очищение, сопровождаемое наивысшим наслаждением. Странное напряжение пульсирует вокруг имени "Понтий Пилат", — и счастлив тот, кто в это пульсирующее напряжение вовлечён…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пилат оценил оба смысла сказанного — прямой и должностной. Что может быть прекрасней изящной мысли?
— А при каком храме уважаемый философ облюбовал себе пифос?
— Очень может быть, что такой храм ещё не воздвигнут, — как-то уж особенно серьёзно произнёс Киник. — К тому же можно обойтись и без пифоса… Это — излишество.
По легенде, когда молодой Диоген перестал по примеру своего отца изготавливать фальшивую монету и, вдруг пожелав стать учеником Антисфена, явился в его схолу, то тот, не намеревавшийся принимать новых учеников, пытался Диогена прогнать и даже замахнулся на него палкой. Диоген мужественно не дрогнул и подставил голову:
«Бей, — сказал он, — но ты не найдёшь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня, пока у тебя есть чт`о сказать».
Так Диоген стал учеником Антисфена. И в те же дни Диогена, освободившегося от неправедно заработанных денег, осенило прозрение, как можно жить ещё лучше. Помогла, как иронизирует легенда, мышка: Диоген всего лишь взглянул на неё, когда она пробегала мимо. В противоположность людской толпе, она не нуждалась в подстилке, не пугалась темноты и не искала мнимых наслаждений…
— А что ты скажешь о пифосе, доверху набитом книгами? — спросил, поддавшись Пилату, наместник.
Наместник имел в виду Хранилище. Римская власть всегда следила, чтобы хотя бы в столичных городах провинций или стран, входящих в Империю, были библиотеки — греческих, латинских и прочих книг. Соответственно, при каждом Хранилище были и хранители.
В сущности, наместник, назначая на вожделенную многими должность чужого в городе человека, только выигрывал от того, что первое из его решений касалось знания, книг и их сохранения. Вообще говоря, чем неожиданней и непонятней бывает первое решение нового начальника, тем отчётливее оно запоминается. А ещё это решение могло быть воспринято как угроза. Чужакам эту должность ещё никогда не отдавали. Назначение же в хранители скифа — а об этом народе толпа знала разве только то, что их рождают якобы на лошадях, прямо на скаку, притом по шею в снегу, помнили также и то, что конные отряды скифов некогда доходили до стен Иерусалима, — было поводом для пересудов: не началось ли вообще изгнание евреев со всех должностей?
Угроза или видимость угрозы была необходима потому, что, как и в любом из городов Империи, в Иерусалиме непременно найдутся люди, которые не смирятся без осязаемой демонстрации силы — назначение хранителя из одной лишь прихоти было бескровным её применением.
Но в этом назначении различим был не только кнут, но также и пряник — для желающих его разглядеть. Наместник миловал простолюдина, дерзко отнёсшегося к представителю власти. Всесильность не столько в способности казнить, сколько в способности добродетельных миловать — на последнее из обладающих высшей властью с`илен далеко не всякий.
Словом, не только наместник, сумевший воспринять некоторые уроки управления от своей жены-патрицианки, но и Пилат обретал многое от этого назначения: у него, согласись этот философ на должность хранителя, появлялся в городе свой человек — всякий отвергающий принцип власти как таковой неподкупен и независим и потому открыт для истины. А истина порой бывает необходима — порой от неё зависит сама жизнь.
— Я имею в виду Хранилище. Библиотеку… Сам понимаешь, это — наказание, — криво усмехнувшись, шутливо добавил наместник. Шутка выдавала жёсткость наместника, вынужденного выполнять клятву Пилата.
Так и не вставший до сих пор Киник наконец-то поднялся:
— Это, пожалуй, даже больше, чем полмира, которые только и догадался предложить Александр.
«Как всё-таки слаб человек! — подумал Пилат. — Какие-то там книги! И за них он отказывается от независимости! А как же его учение?»
В самом деле, киники источником познания Истины считали отнюдь не книги. Вернее, книги источником быть могли, но только второстепенным, дополняющим; в достижении же наивысшего из благ, добродетели, главное — созерцание и самостоятельное осмысление осязаемых событий жизни. Только непосредственное наблюдение может взрастить самостоятельность воли.
— И всё же, — вздохнул Пилат, — позволь, я буду называть тебя — Киник.
Киник расслышал это «всё же». И вздох уловил.
— Не буду лицемерить, — оправдываясь, сказал он. — Очень хочется почувствовать, как это, когда вокруг тебя все стены — в книгах. И нет нужды с приближением заката лишаться общения с ними…
В тот же день по распоряжению наместника Империи Кинику достались в пользование не только Хранилище, не только ежедневный хороший стол, но и дорогой, ежемесячно сменяемый хитон и плащ хранителя.
А ещё Пилат распорядился доставить в Хранилище два кресла, изысканно-простые, как раз такие, в которых, как ему всегда казалось, думается особенно раскованно.
— Мне нужен твой совет, — сказал Пилат, тяжело опускаясь в ближайшее кресло. — Беда.
Киник удивился. Он тут же отложил в сторону древний греческий свиток и пересел в кресло напротив Пилата.
— Только без недосказанностей, — твёрдо сказал он, внимательно всматриваясь в появившуюся со времени последней встречи тень на лице Пилата. — Говори всё. И — истину. Как бы она ни была постыдна.
Всё Пилат мог сказать только Кинику. Если не рассматривать причины глубинные, то не только потому, что Киник явно умел не выдавать чужих тайн, но ещё и потому, что он, в своей жизни изобильно благословлённый бедами, движения души Пилата понять мог.
Скажем, его перевоплощения в торговца с Понта.
Да, Кинику были дарованы такие жизненные обстоятельства, что он прочувствовал, как это: догадываться, что ты — на самом деле, весьма возможно, вовсе не ты. Есть в твоём рождении, в твоих предках какая-то тайна, от тебя сокрытая, а потому тебе до времени неизвестная, но многое меняющая. Иными словами, ты — это не то, что видят другие, или хотят в тебе видеть, и не то, что о тебе сказали льстецы. Но кто ты на самом деле, выяснить хочется неимоверно.
Киник по рождению был из тех, кого в ойкумене называли скифами, но почти всё детство и всю молодость провёл в пригороде Рима и уж, казалось, совсем стал римлянином, как вдруг с некоторым для себя удивлением выяснил: душа у него, несмотря на многолетнее римское образование, — что называется, скифская.
«Рассуждать, как скиф» — эта известная поговорка подмечала исключительную, сравнительно с прочими народами, раскованность мышления некоторых скифов, раскованность, удивлявшую не только лучших из римлян, но даже и греков. В случае с Киником проявилась эта особенность, среди прочего, и в том, что, возмужав, Киник вдруг обнаружил, что в столице Империи, мудрость которой воспевали сонмы придворных поэтов (парас`итов), — пусто.
В Рим Киник был привезён хотя и против его воли, но не как раб, не как пленник, а как заложник. Из потревоженного войной юга Скифии (нападает Рим, а истинным скифам Великий Город, так скажем, безразличен) его привезли двухлетним ребёнком — во время одной из приграничных сумятиц он был подобран римскими легионерами. По некоторым оказавшимся рядом с мальчонкой предметам сочли, что он — сын предводителя одного из племён; впрочем, не исключено, что солдаты ошиблись или их намеренно обманули, оставив безродного ребёнка в княжеской люльке; или легионное начальство за свой обман намеревалось получить награду. Но как бы то ни было, подобранный ребёнок был отвезён в Рим в надежде, что его здесь пребывание на почётном положении заложника будет способствовать сговорчивости вождей Скифии.
Киника поселили в кварталах, где жили другие такие же заложники — дети царей и князей многих и многих провинций Империи и приграничных стран. Рим оплачивал заложникам самое изысканное образование не только в риторских схолах, но и у знаменитых борцов в лучших гимнасиях. Обучали их при наличии интереса и владению мечом, и приёмам рукопашного боя. Словом, заложники были вольны делать всё что хотели, но не имели права только на главное — самовольно покинуть Рим и пределы Империи.