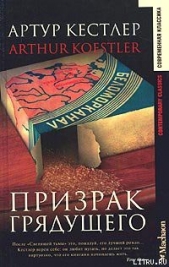Слепящая тьма
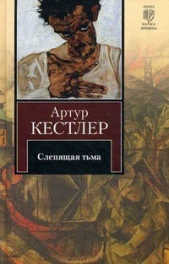
Слепящая тьма читать книгу онлайн
Артур Кестлер (1905-1983) прожил сложную, исполненную трагических потрясений жизнь. Еврей по национальности, Кестлер родился в Будапеште, детство и юность провел в Венгрии, Австрии и Германии. Европейскую известность как журналист Артур Кестлер завоевал совсем молодым человеком: с 1926 по 1929 год он был корреспондентом немецкого издательского концерна Ульштайна на Ближнем Востоке, в 1929-1930-годах работал в Париже. Кестлер — единственный журналист Европы, совершивший в 1931 году на немецком дирижабле «Граф Цеппелин» полет к Северному полюсу. В середине тридцатых годов писатель предпринял большое путешествие по Центральной Азии и год прожил в Советском Союзе.
Написанный много лет назад, роман «Слепящая тьма» Артура Кестлера представляет интерес и сегодня. Он дает представление о том, как воспринимались за пределами СССР события внутренней жизни страны, какой огромный, до сих пор трудно восполнимый ущерб был нанесен сталинским террором международному престижу родины социализма и единству мирового коммунистического движения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— У вас флюс. Откройте рот, — через несколько секунд проговорил врач.
Сейчас зуб почти не болел. Рубашов спокойно открыл рот.
— Первый глазной полностью разрушен. — Врач нащупывал зуб пальцем. Внезапно Рубашова пронзила боль, он побледнел и прислонился к стене.
— Ну да, так оно и есть, — сказал врач. — Абсцесс на корне глазного зуба.
Рубашов с трудом перевел дух. Нестерпимая боль протыкала голову — от верхней челюсти, сквозь глаз и в мозг. Как будто кто-то через равные промежутки вонзал ему в голову кривую иглу. Врач уже снова развернул газету и взялся за свой недоеденный бутерброд.
— Если хотите, я удалю вам корень, — сказал он Рубашову, пережевывая сало. — Наркоз при удалении мы не применяем. Операция продлится полчаса — час.
Рубашов стоял, привалившись к стене, и тяжело дышал; в голове гудело, слова врача рассыпались и глохли. «Пока не стоит», — пробормотал он. Ему послышалось, что в стену стучат: «Паровая ванна», — вдруг вспомнил он; всплыло лицо Заячьей Губы, потом вспыхнул огонек папиросы, прижатый к коже, — смехотворный спектакль. «Плохо дело», — подумал Рубашов.
Придя в камеру, он рухнул на койку, и его сейчас же охватило забытье.
В полдень, когда разносили баланду, его не пропустили, и он поел; видимо, ему выписали довольствие. Мучившая его боль утихла; он надеялся, что абсцесс созреет и вскроется сам, без хирургического вмешательства.
Через три дня его вызвали на допрос.
14
В одиннадцать утра дверь распахнулась. По торжественно-серьезному лицу надзирателя Рубашов понял, куда его поведут. Как и обычно в минуты опасности, он ощутил ясное спокойствие — ничем не заслуженный дар судьбы.
Они вышли из Одиночного блока, и бетонная дверь тяжело захлопнулась. «До чего же быстро человек привыкает к любой обстановке», — подумал Рубашов; ему казалось, что он дышал спертым воздухом этих коридоров по крайней мере уже несколько лет, словно здесь сгустилась атмосфера всех тюрем, где он побывал.
Они миновали комнату парикмахерской, показалась закрытая дверь санчасти, перед ней под охраной сонного надзирателя стояли в очереди трое заключенных.
Дальше Рубашова еще не водили. Они подошли к спиральной лестнице. Куда она вела — в кабинеты следователей или в подвал с камерами пыток? Рубашов призвал на помощь свой опыт. Эта узкая железная лестница внушала ему скверные предчувствия.
Они спустились во внутренний двор, зажатый высокими, без окон, стенами, пересекли его и вошли в следующий корпус; лампы здесь были прикрыты плафонами, на деревянных — а не железных — дверях по обеим сторонам широкого коридора мягко поблескивали медные ручки; из комнаты в комнату сновали следователи; за одной из дверей слышалось радио, за другой стрекотала пишущая машинка. Словом, это был Следственный корпус.
Они остановились у последней двери; надзиратель, сопровождающий Рубашова, постучал. В кабинете кто-то говорил по телефону; он сказал немного погромче: «Минуту», — и, видимо, продолжил разговор; из-за двери слышались приглушенные реплики: «Да… Конечно… Совершенно верно…». Голос показался Рубашову знакомым, но ему не удавалось вспомнить, чей он. Приятный, чуть хриплый мужской голос; да, Рубашов его явно слышал. «Войдите», — сказал хозяин кабинета; надзиратель открыл деревянную Дверь, Рубашов вошел, и дверь захлопнулась. Он увидел большой письменный стол; за столом сидел его старый товарищ, бывший командир полка Иванов; опуская на рычаг телефонную трубку, он с улыбкой рассматривал Рубашова.
— Вот мы и встретились, — сказал Иванов.
Рубашов все еще стоял у двери.
— Приятная встреча, — ответил он сухо.
Иванов медленно поднялся с кресла — он был гораздо выше Рубашова.
— Присаживайся, — радушно предложил он, с улыбкой глядя на бывшего командира. Они сели; их разделял стол; они в упор рассматривали друг друга: Иванов, по-прежнему дружески улыбаясь, Рубашов — выжидающе, сосредоточенно, сдержанно. Потом его взгляд скользнул под стол.
Иванов притопнул правой ногой.
— С этим порядок, — сказал он. — Автоматический протез на хромированном каркасе. Могу плавать, ездить верхом, водить машину и плясать… Закурим?
Иванов через стол протянул Рубашову деревянный, наполненный папиросами портсигар.
Рубашов мельком глянул на папиросы и вспомнил, как он приехал в госпиталь, когда Иванову ампутировали ногу. Иванов умолял принести ему веронала и в споре, который длился до вечера, пытался доказать, что каждый человек имеет право на самоубийство. Наконец Рубашов согласился обдумать просьбу своего командира полка, но тою же ночью был переброшен на какой-то другой участок фронта.
Они встретились через много лет.
Рубашов внимательно заглянул в портсигар. Иванов сам набивал гильзы — светлым, видимо, американским табаком.
— Если у нас неофициальный разговор, то я не возражаю, — ответил Рубашов, — а если ты в начале допроса всем подследственным предлагаешь закурить, то убери портсигар. Давай уж по старинке — мы у тюремщиков никогда не одалживались.
— Брось дурить, — сказал Иванов.
— Ладно, — сказал Рубашов и закурил. — Ну, а как твой ревматизм — прошел?
— Вроде прошел, — ответил Иванов. — А как твой ожог — не очень болит? — Он улыбнулся и с простодушным видом показал на левую рубашовскую кисть. Там, между двумя голубеющими жилками, виднелся довольно большой волдырь. С минуту оба смотрели на ожог. «Откуда он знает? — подумал Рубашов. — Значит, за мной все время следили?» Но он ощутил не гнев, а стыд; последний раз глубоко затянувшись, он бросил окурок папиросы в пепельницу.
— Давай-ка считать, — проговорил он, — неофициальную часть нашей встречи законченной.
Иванов выдувал колечки дыма и смотрел на Рубашова с добродушной насмешкой.
— А ты не торопись, — посоветовал он.
— А я, между прочим, к тебе и не торопился. — Рубашов твердо глянул на Иванова. — Я и вообще-то сюда не приехал бы, если б вы не привезли меня силой.
— Верно, тебя немного поторопили. Зато теперь тебе спешить некуда. — Иванов ткнул свой окурок в пепельницу и, сразу же закурив новую папиросу, опять протянул портсигар Рубашову; однако тот остался неподвижным. — Да е…лочки зеленые, — сказал Иванов, — помнишь, как я у тебя клянчил веронал? — Он пригнулся поближе к Рубашову и дунул дымом ему в лицо. — Я не хочу, чтобы ты спешил… под расстрел, — с расстановкой произнес он и снова откинулся на спинку кресла.
— Спасибо за заботу, — сказал Рубашов. — А почему вы решили меня расстрелять?
Несколько секунд Иванов молчал. Он неторопливо попыхивал папиросой и что-то рисовал на листке бумаги. Видимо, ему хотелось найти как можно более точные слова.
— Слушай, Рубашов, — сказал он раздумчиво, — я вот заметил характерную подробность. Ты уже дважды сказал вы, имея в виду Партию и Правительство — ты, Николай Залманович Рубашов, противопоставил им свое я. Теоретически, чтобы кого-нибудь обвинить, нужен, конечно, судебный процесс. Но для нас того, что я сейчас сказал, совершенно достаточно. Тебе понятно?
Разумеется, Рубашову было понятно, и однако он был застигнут врасплох. Ему показалось, что зазвучал камертон, по которому настраивали его сознание. Все, чему он учил других, во что верил и за что боролся в течение последних тридцати лет, откликнулось камертону волной памяти… Партия — это всеобъемлющий абсолют, отдельно взятая личность — ничто; лист, оторвавшийся от ветки, гибнет… Рубашов потер пенсне о рукав. Иванов сидел совершенно прямо, попыхивал папиросой и больше не улыбался. Рубашов обвел взглядом кабинет — и вдруг увидел светлый прямоугольник, резко выделявшийся на серых обоях. Ну, конечно же, здесь ее тоже сняли — групповую фотографию бородатых философов. Иванов проследил за взглядом Рубашова, но его лицо осталось бесстрастным.
— Устаревшие доводы, — сказал Рубашов. — Когда-то и мне коллективное мы казалось привычней личного я. Ты не изменил своих старых привычек; у меня, как видишь, появились новые. Ты и сегодня говоришь мы… но давай уточним — от чьего лица?