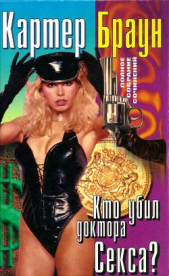Адские машины желания доктора Хоффмана
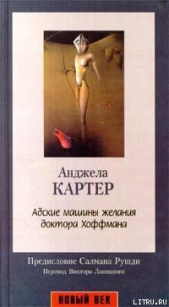
Адские машины желания доктора Хоффмана читать книгу онлайн
Она были слишком своеобразным, слишком неистовым писателем: попеременно чопорной и скандальной, экзотической и обыденной, изысканной и вульгарной, манерной и скабрезной, занимательной и обличительной, пышной и мрачной. От транссексуальной колоратуры «Страстей новой Евы» и до бесшабашных мюзик-холльных вечеринок «Мудрых детей» ее романы не спутаешь ни с какими другими... Иногда на протяжении романа характерный для Картер голос, эти пропитанные опиумным дымом каденции, то и дело прерываемые режущими по живому или комическими диссонансами, эта смесь лунного камня с фальшивыми бриллиантами, изобилия и мошенничества может утомлять. В своих рассказах она способна ослеплять, когтить и ускользать, оставаясь все время впереди.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как вы думаете, Мэри-Энн, что с ним случилось? — осторожно спросил я, ибо, хотя и знал из своих записей — да и интуиция это подтверждала, — что она вполне реальна, все же мне не доводилось еще встречать женщину, которая бы выглядела столь хорошо знакомой с тенями, как она.
— Конечно, он распался, — сказала она. — Он разложился на составные части — пробирка аминокислот, пучок-другой волос…
Мэри-Энн взмахнула чашкой, чтобы ей налили еще чая. Она так и не дала мне ответа, которого я мог бы ожидать, и на дальнейшие расспросы только хихикала и трясла головой — так что на пол упала пара скрученных яблоневых листочков, а волосы метались перед глазами. Затем Мэри-Энн с подчеркнутой аккуратностью прирожденного увальня поставила на стол чашку и убежала по темному коридору. Должно быть, она не затворила за собой двери гостиной, ибо ее пианино зазвучало теперь громче, чем раньше, и по каким-то иррациональным мотивам она сменила музыку; на сей раз она играла прозрачные нонсенсы Эрика Сати. Вздохнув, экономка принялась собирать чашки.
— Не все дома, — сказала она.
Вскоре она отвела меня к кровати, застланной лоскутным стеганым одеялом, в простой, но милой комнатке в задней части дома. Стояла теплая, ласковая ночь, и на поверхности моего первого сна девушка подбирала на своем фортепиано угловатые узоры звуковых кружев. Думаю, проснулся я из-за того, что музыка смолкла. Возможно, догорели ее свечи.
Взошедшая к тому времени луна светила сквозь экран плюща и роз прямо в окно моей комнаты, и на кровать, на стены и пол четко ложились изумительно разборчивые пятнистые тени. Внутри словно возник негатив фотографии того, что снаружи, а луна уже сделала черно-белый снимок сада. Я проснулся сразу и полностью, никаких следов сна не осталось у меня ни в одном глазу, словно пора уже было просыпаться, хотя на самом деле разве что слегка перевалило за полночь. Сон совсем пропал, оставаться в кровати не имело смысла, и с легким ощущением бессонницы я встал, чтобы выглянуть из окна. Сад оказался намного обширнее, чем мне показалось поначалу, а его находившийся за домом участок зашел, как выяснилось, по пути одичания еще дальше, чем тот, через который я пробирался накануне. Луна сияла так ярко, что не оставалось буквально ни одного темного уголка, и мне было видно пересохшее дно большого пруда — или маленького озерца; ныне оно являло собой овал лилий с плоскими лепестками, а розы по соседству полностью задушили в своих объятиях мраморную ундину, покоящуюся на боку в трогательной, преисполненной провинциальной грации позе. Очерченный в лунном свете с точностью гравюры на дереве, среди полянки, которая была когда-то газоном, резвился и кувыркался выводок лисят. Не было ни ветерка. Ночь вздыхала под томительным гнетом собственного романтизма.
Не думаю, что она вспугнула меня каким-то звуком, но вдруг я ни с того ни с сего отчетливо осознал, что в комнате кто-то есть, и шея моя покрылась холодным потом. Медленно отвернулся я от окна. Она жила на сумеречном пороге жизни, и такою я ее и запомнил — навсегда нерешительно замершей в дверях, незваной гостьей, не уверенной, что ее примут. Глаза ее были открыты, но незрячи, в пальцах протянутой руки она сжимала розу. Вместо простого черного платья на ней была ночная рубашка из белого ситца, какие носят ученицы монастырских школ. Я шагнул к ней, и она, как эхо, двинулась мне навстречу; я взял у нее розу — казалось, она предлагала ее. Скрытый под листьями шип вонзился мне в большой палец, и я почувствовал, что алая роза бьется, словно сердечко, и увидел, как с нее стекает единственная капля крови, будто она взяла на себя мою боль. Мэри-Энн обвила меня невесомыми руками и прижала свой рот к моему. Ее поцелуй походил на глоток холодной воды — и, однако, тут же распалил мое желание, ибо был полон мучительной тоски.
Я отвел ее к кровати и среди пестрых теней вошел в ее тоскующую плоть, холодную, как у русалки или у мраморной наяды в ее собственном саду. Я отметил странную смягченность ее отклика, словно она ощущала мои ласки сквозь завесу вуали, и, поймите меня правильно, все это время я вполне отдавал себе отчет в том, что она спит, поскольку, помимо бесспорного свидетельства своих чувств, отлично помнил, как владелец кинетоскопа судачил о прекрасной сомнамбуле. Однако если она и спала, то снилась ей страсть; ну а я заснул вскоре без всяких сновидений, ибо пережил сон наяву. Когда я проснулся самым что ни на есть заурядным утром, в постели от моей гостьи оставалось только несколько опавших листиков; никаких признаков ее посещения не осталось и в комнате, если не считать валявшейся на полу поблекшей розы.
Мэри-Энн к завтраку не явилась; зато экономка столь обильно снабдила меня яйцами, беконом, сосисками, оладьями, фруктами и кофе, что я не мог не догадаться: по каким-то там причинам она вполне довольна остановившимся в ее доме гостем. При ярком утреннем свете пухлое мрачное лицо пожилой женщины выглядело неопределенно зловещим, даже злобным. Она настаивала, чтобы я вернулся в дом мэра поужинать, и в конце концов, чтобы ее утихомирить, я согласился, пообещав вернуться около семи часов вечера, хотя и не был уверен, буду ли в это время еще в городе. Отправившись к себе в комнату собрать портфель, я наткнулся по дороге на открытую дверь и, заглянув внутрь, увидел свою ночную посетительницу; она сидела перед туалетным столиком среди сплошного кавардака в комнате, забитой партитурами. Она все еще оставалась в той же аскетической ночной хламиде, расчесывая, что (вероятно) делала всего раз в день, свои спутанные волосы.
— Мэри-Энн?
Она издалека улыбнулась мне в зеркале, и я понял, что она проснулась.
— Доброе утро, Дезидерио, — сказала она. — Надеюсь, вам хорошо спалось ночью.
Я смутился.
— Да, — с запинкой выдавил я. — О да.
— Хотя бывает, что людей пугают соловьи, они иногда поднимают такой шум.
— Мэри-Энн, снились ли вам сегодня ночью сны?
Ее гребень застрял в каком-то колтуне, и она нетерпеливо его дергала.
— Мне снилось любовное самоубийство, — сказала она. — Ну да оно всегда мне снится. Вы не находите, что было бы немыслимо прекрасно умереть из-за любви?
Разговор с кем бы то ни было в зеркале несколько тревожит. К тому же в контрабандном зеркале. У нее был высокий и чистый и, хотя она всегда говорила тихо, очаровательно пронзительный, словно зрелище зимней луны, голосок.
— Я вовсе не уверен, что так уж прекрасно умереть за что бы то ни было, — сказал я.
— Всего-то — разлагаешься на составляющие элементы, — не по годам нравоучительно изрекла она. Я шагнул в комнату, оставляя за собой на белом ковре броскую дорожку грязных следов, и, приподняв ей волосы, нагнулся, чтобы поцеловать в затылок. И тут я впервые со дня начала войны увидел свое отражение, увидел, что за это время слегка постарел и выглядел столь же цинично, как сатир на ренессансной картине. Мое лицо — бедная моя матушка — полностью обрело непроницаемость индейца. Я по-приятельски подмигнул себе. Мэри-Энн позволила мне поцеловать себя, но не уверен, что она это заметила.
— Что вы будете сегодня делать, Мэри-Энн?
— Сегодня? Играть на фортепиано, разумеется. Если, конечно, не придумаю ничего получше.
Не знаю, не заметил ли я на какой-то миг, как ее глазами на меня глянул кто-то другой, ведь я не смотрел на нее, я смотрел в зеркало только на себя.
Когда я покидал дом, он превратился в музыкальную шкатулку, ибо Мэри-Энн уже вовсю наигрывала на своем фортепиано. Теперь она упражнялась в этюдах Шопена. При свете дня я убедился, что дом очень велик, — один из построенных безо всякого плана сельских домов, наполовину дом при ферме, наполовину загородный особняк; при всем при том он, должно быть, развалился на три четверти еще в бытность здесь самого мэра, по крайней мере, целые участки крыши ввалились внутрь под чудовищным бременем растительности, а то, что было когда-то конюшней или пристройками, лежало открытым всем ветрам и непогодам, и природа уже накинула на все это слишком толстое, чтобы быть сотканным за несколько месяцев, зеленое одеяло. В чистом утреннем свете обвалившиеся кирпичи, заголенные балки, розы и деревья все еще, казалось, спали, негромко бормоча и чуть шевелясь, словно неясная, незапамятная греза смущала их дремоту, столь же глубокую, как и дрема их хозяйки, спящей красавицы из дремучего леса, которая спала слишком крепко, чтобы пробудиться от чего-либо столь же нежного, как поцелуй.