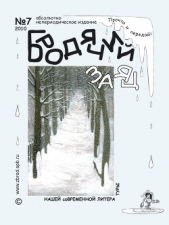Я в Лиссабоне. Не одна (сборник)

Я в Лиссабоне. Не одна (сборник) читать книгу онлайн
"Секс является одной из девяти причин для реинкарнации. Остальные восемь не важны," — иронизировал Джордж Бернс: проверить, была ли в его шутке доля правды, мы едва ли сумеем. Однако проникнуть в святая святых — "искусство спальни" — можем. В этой книге собраны очень разные — как почти целомудренные, так и весьма откровенные тексты современных писателей, чье творчество объединяет предельная искренность, отсутствие комплексов и литературная дерзость: она-то и дает пищу для ума и тела, она-то и превращает "обычное", казалось бы, соитие в акт любви или ее антоним. "Искусство Любить", или Ars Amandi, — так называли в эпоху Ренессанса искусство наслаждения. Читайте. Наслаждайтесь.
(Наталья Рубанова)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Долго возилась с замком, чертыхаясь и охая, подталкивая коленкой дверь. Зажимая ладонью промежность, вихрем понеслась в уборную. Из комнаты, шаркая тапками, вышел муж:
— Ты где ходишь так поздно? — Чай будешь? Я поставлю. — Он нашарил рукой очки и прислушался к шуму льющейся воды из ванной комнаты.
— Нет — от чая молоко прибывает, — глухо ответила она. — Стоя перед умывальником, смотрела на белесую струйку молока, стекающую на живот, — из роддома она вернулась месяц назад, с перевязанной грудью и пустыми руками. А молоко все прибывало.
Эта, в окне, ночи не спит. Бродит призраком по унылой двушке, вдувает кальян истрепанным ртом, караулит либидо. Зябнет, но упорно голым плечом выныривает из блеклой вискозы в угасающих розах, — бывшая боттичеллиевская весна в кирпичном румянце на узких скулах, с узкими же лодыжками и запястьями, с канделябром ключиц цвета слоновой кости — сама себе светильник и огниво, — прикуривает, жадно припадая, — рассыпаясь костяшками позвонков не утратившей лебединого шеи. Бывшая балерина, светясь аквамариновым оком, кутается в невесомое, ждет. Любви, оваций, случайного путника, — изнуренного ночными поллюциями Вертера с прорывающим пленку горла кадыком либо стареющего бонвивана — жуира с сосисочными пальцами и подпрыгивающим добродушно животом. На лестнице она вдыхает в меня прогорклым, кошачье-блудливым, туберозами и пыльным тюлем, — жабья лапка хватает, тянет за рукав, умоляя морщиной рта, нарисованной старательно перед подслеповатым зеркалом — о, зеркала стареющих примадонн, покрытые слоем патины и грез! — Кокетливо взбивая застывшие прядки, она улыбается себе, пятнадцатилетней, плачущей от любви, детской любви, mon amour, с пунцовой розой в волосах, с молитвенно спаянными ладонями — сама себе поцелуй и сама себе любовник, — она жадно целует свой рот, прижимаясь пылающей щекой к собственному отражению. Уличный зазывала театра Кабуки, переодевающийся за ширмой в мгновение ока, предстающий то умирающим от любви юношей самурайского рода, то нежной сироткой с озябшими коленками. В кимоно цвета увядающей сливы.
…некоторые из них уходили, а редкие — оставались на ночь и плакали на его груди: сначала — от счастья, потом — от невозможности счастья, — после — от быстротечности всего сущего. Они плакали на его груди от того, что приближался рассвет — тот таинственный час, когда случаются стихи, именно — не пишутся, а случаются, как неизбежное, — а уже после наступало утро — время не поэзии, но прозы. Прозы опасливо приоткрытых форточек, пригорающей яичницы, надсадного кашля и струйки сизого дыма. Время одиночества.
Он не помнил их ухода, а только торопливые обмирающие поцелуи, — их жаркие слезы, их сдержанную готовность к разлуке, привычку быстро одеваться, обдавать волной острых духов и терпкой печали — о, женщины, похожие на мальчиков — с глазами сухими, однажды выплаканными, — они ироничны и беспощадны, их кредо — стиль, — умелое балансирование на сколе женственности и мальчишеской отваги, — пляшущий огонек у горьких губ и поднятый ворот плаща — гвардия стареющих гаврошей, заложников пульсирующего надрыва Пиаф, смертоносного шарма Дитрих и Мистингет.
Или женщины-дети: опасно-требовательные, сметающие все на своем пути, — как эта башкирская девочка, — с телом узким, подобным восковой свече, — о, если бы была она безмолвной красавицей с Японских островов с подвернутыми ступнями маленьких ног, с цветной открытки из далекого прошлого. Юная поэтесса смотрела на мир из-под косо срезанной челки, знала такие слова, как «концептуально», «постмодернизм», — лишь на несколько блаженных мгновений клубочком сворачивалась на постели, умиротворенная, надышавшаяся, разглаженная, пока вновь не распахивала тревожную бездну глаз, вытягиваясь отполированным желтоватым телом, пахнущим степью, желанием, горячим потом. Где начинались желания маленькой башкирской поэтессы, заканчивалась поэзия — опустошенный, он выпроваживал ее и выдергивал телефонный шнур, чтобы не слышать угроз, мольбы, чтобы не видеть, как раскачивается она горестно у телефона-автомата, а потом вновь скользит детскими пальцами, отсвечивающей розовым смуглой ладонью по его лицу, — бродит вокруг дома, молится и проклинает, стонет и чертыхается всеми словами, которые способна произносить русская башкирская поэтесса, живущая в Нью-Йорке.
«А в прошлой жизни я была китаянкой, — такой… не вполне обычной китаянкой, не говорящей по-китайски, то есть совершенно русскоязычной, впервые попавшей на родину предков, — а там — о, ужас! — все по-китайски лопочут и к тому же не воспринимают меня как иностранку, о чем-то спрашивают и не получают ответа, — говорит она и плачет, сначала жалобно, а потом зло. — У тебя аура — фиолетовая, с оранжевым свечением по краям», — она вскидывается посреди ночи, юная, полная жара и тоски, и сидит у кухонного стола, поджав узкие ступни, кутаясь в его рубашку, — одержимая стихами, она напевает вполголоса странные песенки, чуждые европейскому уху.
Была женщина-актриса, известная актриса, подрабатывающая в ночном клубе, — девушка из его прошлой жизни, не его девушка, чужая, но мечта многих, кумир — белоголовый ангел, кричащий о любви. Каково быть ангелом с металлокерамической челюстью и двумя небольшими подтяжками: одной — в области глаз, где раскинулась сеть тревожных морщинок, и еще — на трепетной груди, уставшей от ожидания, опавшей, разуверившейся? — В объятиях актрисы было суетно и печально, почти безгрешно — не было утешительной влаги в ее сердце, в уголках ее подтянутых глаз, — в ее холеном изношенном лоне.
В женщину нужно входить как в Лету, познавать ее неспешно, впадать в устья, растекаясь по протокам. Эта, последняя, назовем ее Анной, либо Марией, можно — Бьянкой, — станет последней и единственной — лишенная суетности, расчета, эгоизма — само безмолвие, стоящее на страже его сновидений, оберегающее его откровения, не позволяющее праздному любопытству завладеть его страхами, воспоминаниями — зимой его осени, весной его зимы, его расцветом, его Ренессансом и его упадком, — его бессилием, — его печальным знанием. Как все прекрасное, она придет слишком поздно, как все прекрасное, она явится вовремя — как предчувствие конца, — как голуби на площади Святого Марка, как вытесанные из камня ступени, ведущие в прохладную часовню, как промозглый ветер на набережной и ранний завтрак в пустынном «Макдональдсе», как последняя строка, созвучная разве что пению ангелов. Непроизносимая, запретная, страшная, подмигивающая раскосым глазом, будто загадочное обещание маленькой японки из зазеркалья детских грез, — как последний акт «Божественной комедии» — плывущая в сонме искаженных лиц пьянящая улыбка Беатриче.
Если кто еще не понял, Танька была гейшей.
Гейшей она стала не так давно, после знакомства с Бенкендорфом, скромным художником-фотографом, коллекционирующим шейные платки и карточки с голыми девушками. Сказать по правде, до знакомства с этим удивительным человеком Танька вела разнузданную половую жизнь.
Вообразите тихую девчонку, которая ждет жениха из армии — три года ждет, поглядывая в окошко, письма длинные пишет, конверты запечатывает, марки покупает, а он берет да и женится на другой. Иная бы плюнула и жила себе дальше, вот и Таня жила… Таня, да не та — опозоренная, отвергнутая, она зажмурила глаза и шагнула вниз, — жива осталась, только хромала, припадала на одну ногу, потешно ныряя тазом. Нежноликая, легко краснеющая, сшибала сигареты у ларька, — пошатываясь, дыша отнюдь не «духами и туманами», распахивала короткое демисезонное пальто, и тут уже все было по-настоящему, без дураков.
Таня была отзывчивая и часто давала «за так», а малолеток и вовсе жалела, обучала нежной науке в теплых парадных: отшвыривала тлеющий окурок, заливаясь румянцем, прикрывала веки и устраивалась поудобней на грязных ступеньках.
Шальная, на спор могла спуститься с девятого на первый, естественно, голая, в одних чулках, чувство стыда было неведомо ей — таращилась безгрешными своими васильковыми глазищами, нимфой белокожей плескалась в полумраке лестничного пролета, доводя тихих старушек и добропорядочных граждан до сердечного приступа.