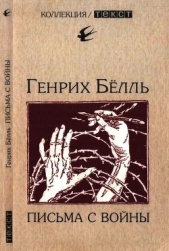Ангел молчал

Ангел молчал читать книгу онлайн
Свой первый роман Бёлль написал в самом начале 50-х годов, а опубликован он был лишь спустя 40 лет. Описывая жизнь послевоенной Германии, автор противопоставляет жадности и стяжательству любовь двух усталых людей, измученных тяготами войны. На русском языке публикуется впервые. «Эта книга отнюдь не меняет нашего представления о Бёлле. Напротив, она дополняет его и позволяет по-новому взглянуть на раннее творчество писателя. „Ангел молчал“ — это ключ к пониманию романиста Генриха Бёлля» — «Франкфуртер Альгемайне».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А когда проснулся, оказалось, что все покидают зал. Незнакомая женщина, спавшая рядом, уже исчезла. Ганс втиснулся в толпу выходящих, его опять остановили у стола, где лежали кучки грязных одеял, опять пришлось показывать свое удостоверение и ждать, пока проверят, брал он одеяло или нет. За столом теперь стоял старик, мрачный инвалид с незажженной трубкой во рту, который тупо принимал одеяла и возвращал взятые за них в залог деньги, отсчитывая их прямо в протянутые к нему грязные ладони…
На улице было совсем светло, потеплело, и, когда Ганс принялся искать талон на хлеб, он со страху тут же взмок от пота: та бумажка исчезла. Он судорожно шарил по карманам и чувствовал, что смертельный ужас угнездился глубоко в его душе, ужас из-за потерянного или украденного хлеба. Сердце его бешено колотилось, и он с трудом удержался от слез, когда наконец нащупал скомканную бумажку в нагрудном кармане. Он развернул ее, тщательно разгладил и пошел дальше, прочитав: «На одну буханку в булочной у…» Сердце его все еще бешено колотилось…
IX
Сердцебиение не утихало, он все время думал о хлебе, и удары сердца походили на слегка болезненную, но все же приятную пульсацию в ранке: сердце его было словно большой ссадиной в груди. Он шагал с такой скоростью, на какую хватало сил, выбирая улицы, посреди которых были расчищены от обломков узенькие тропинки, и уже к девяти часам добрался до улицы, от которой ответвлялась Рубенштрассе. Вспомнив о той женщине, не мог удержаться от улыбки: что она скажет, когда он вдруг заявится и предъявит ей свое право на буханку. Конечно же она его узнает. В этом он был уверен. Может быть, она предложит ему деньги, кучу денег. Их хватит, чтобы купить себе настоящее удостоверение с его настоящим именем — клочок бумаги, но настоящий, насколько может быть настоящим купленный клочок бумаги. Но еще сильнее, чем при мысли об удостоверении, которое он сможет купить, еще сильнее билось его сердце при мысли о хлебе — настоящем, реальном хлебе. Пока у него была лишь бумажка, дающая право на хлеб, но не сам хлеб. А ему так хотелось ощутить его ароматную мякоть, кусать его и отламывать большие куски, хотелось принести его Регине. Целая буханка свежего хлеба — в поджаристой корочке запеченные островки теста; какой необычайный у него запах и вкус, такой вкус может быть только у хлеба. С какой-то странной радостью, уже как бы не совсем чувственной, он вспомнил о хлебе, который дала ему монахиня почти три недели назад. Вчера он вышел из дому, чтобы раздобыть какой-нибудь еды, как обещал Регине, но почти ничего не сумел: у него не было ни денег, ни вещей для обмена. Но одну буханку он все же принесет домой. А может, и много буханок, может, та женщина даст ему деньги, много денег, и он сможет купить на них много хлеба. Цены на хлеб сразу резко подскочили, как только война кончилась. Мир взвинтил цены. И все же теперь хлеб можно купить, только он очень дорог.
Он уже решил, что не станет покупать удостоверение — только хлеб. Ведь у него пока еще есть документ, отличный клочок бумаги, за который Регина отдала свой фотоаппарат. Жалко, подумал он, наверное, было бы лучше обменять его на хлеб…
Он присел на развалины бассейна, чтобы унять сердцебиение. Это саднящее место в груди казалось ему все расширяющейся и углубляющейся раной, боль от которой доставляла ему странное удовольствие…
Зеленые кафельные плитки бассейна дочиста отмылись дождем и снегом последних дней и теперь сверкали на солнце. Тут же валялась дверца от душевой кабины с черно-белым эмалированным номером, выкрашенная светло-зеленой краской.
Дату бомбежки можно определить по наличию или отсутствию зелени на развалинах: это чисто ботанический вопрос. Здешняя груда развалин была голой и лысой — камни с рваными краями, недавно взорванная кирпичная кладка, все это в диком беспорядке навалено друг на друга, вдобавок торчащие в небо железные балки почти без следов ржавчины; нигде ни травинки, в то время как в других местах уже успели вырасти деревца, прелестные молодые деревца в кухнях и спальнях, бок о бок с ржавым остовом сгоревшей печи. Здесь же — лишь картина чистого разрушения, пустынная и зловещая, словно еще дышащая губительным дыханием бомбы. И только кафельные плитки — там, где они сохранились, — блистали невинностью.
Ганс почувствовал, что уже принялся считать деньги, которые получит от той женщины: тысячу, подумал он сначала, потом уже несколько тысяч, и ругал себя за то, что не принял тогда ее предложение ему помочь. Наверняка у нее было очень много денег, наверняка завещание ее мужа стоило несколько сот тысяч марок, и он, он оплатил его своей смертью, то есть очень дорого. Это «тогда», отстоявшее от «теперь» всего на восемнадцать дней, представлялось ему сейчас бесконечно далеким. Тогда еще шла война, все еще шла, и теперешняя уверенность в том, что войны больше нет, делала эти восемнадцать дней такими давними и долгими, что он смотрел на это недавнее прошлое, как на бесконечно уменьшенную миниатюру. Оно чудилось ему более древним, чем Древняя Греция, всегда казавшаяся ему безумно далекой седой стариной.
На развалины вскарабкались два паренька и начали разламывать вырванную взрывом дверцу кабины. Делали они это вполне профессионально: сначала молотком разбили на части коробку, потом вытащили из пазов филенки и увязали все это в небольшой плоский пакет.
Он поднялся, чтобы пробраться в переулок. Хлеб, думал он, значит, хлеб у меня наверняка будет. И деньги тоже. Теперь он уже всерьез рассчитывал на деньги — на приличную сумму в счет долга за его смерть, которая наверняка потянет на стоимость двадцати буханок…
Когда он вошел в парадное, то почувствовал, что его руки, вцепившиеся в бумажку, были мокрыми от пота. Текст, напечатанный на машинке, немного размазался, когда он разгладил бумажку и постучал в дверь. Долго ничего не было слышно, слишком долго, как ему показалось, и он постучал еще раз, уже энергичнее. Стук без эха тонул в этой забитой вещами прихожей. Не услышав опять никакого отклика, он трижды сильно ударил каблуком в дверь. И уловил тихое звяканье стекла над дверью и шелест посыпавшейся штукатурки…
Тут наконец-то открылась слева дверь, ведущая в комнату той женщины, и он перепугался, заслышав тяжелые мужские шаги. Дверь отворилась; он увидел лицо — длинное и широкое бледное мужское лицо с нервно перекошенным ртом…
У Ганса была одна черта, весьма обременительная, а зачастую и просто тяжкая: он помнил все лица, попадавшиеся ему на жизненном пути. Все они следовали за ним, и он всегда их узнавал, если они вновь появлялись. Они плавали где-то в его подсознании, в особенности те, которые он видел лишь мельком и однажды. Они проплывали по кругу, словно серые рыбы между водорослями в мутном пруду, иногда почти высовывали свои безмолвные головы из воды. Но по-настоящему выныривали и торчали перед ним явственно и неотвратимо, только если он их и на самом деле вновь встречал. Казалось, будто их отражение ясно и четко всплывает, когда они сами появляются в этом мучительно перенаселенном секторе — в поле его зрения. Они все обязательно появлялись: лицо трамвайного кондуктора, однажды, много лет назад, продавшего ему проездной билет, превратилось в лицо земляка-ополченца, лежавшего на соседней койке в эвакуационном пункте для раненых: то был парень, у которого из-под бинтов на голове вылезли полчища вшей, копошившихся в свернувшейся крови, словно в свежей. Эти вши мирно ползали по шее и по лицу лежавшего без сознания парня; Ганс видел, как эти наглые твари взбирались по ушам, соскальзывали вниз и застревали на плечах того самого человека, который в трех тысячах километрах к западу семь лет назад продал ему проездной билет с правом на пересадку. Только теперь у него было изможденное лицо страдальца, а тогда оно было весьма свежим и жизнерадостным…
Но это широкое бледное лицо с нервно перекошенным ртом не изменилось, ни война, ни разруха не смогли ничего с ним поделать: та же рыхлая оболочка академического спокойствия, те же глаза, которые знали, что они знают нечто этакое, и как единственный признак легкого страдания — слегка приоткрытые, изящно изогнутые губы, с выражением страдания, вполне вероятно, вызванного отвращением, особо приятным видом отвращения. В тусклом освещении прихожей это лицо в самом деле показалось Гансу головой огромного бледного карпа, молчаливо и самоуверенно высовывающейся из пруда, в то время как руки оставались внизу и были невидимы в плотном мраке прихожей. Это был доктор Фишер, один из постоянных покупателей того книжного магазина, где Ганс обучался профессии продавца и где ему лишь однажды, как наиболее многообещающему ученику, разрешили обслуживать доктора Фишера — тот слыл большим знатоком книг и был одновременно филологом, юристом, издателем журнала, имел глубокую и довольно продуктивную склонность к изучению творчества Гете и считался в ту пору неофициальным советником по культуре его высокопреосвященства кардинала. Это лицо Ганс лишь единожды видел вблизи, в другие дни — лишь мельком, когда доктор Фишер быстро проходил мимо него по книжной лавке, чтобы затем скрыться за дверью шефа. С тех пор минуло почти восемь лет, но Ганс тотчас узнал его: леска мгновенно взвилась и выдернула на поверхность эту голову.