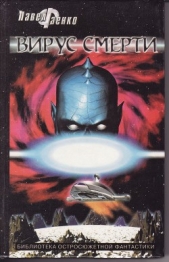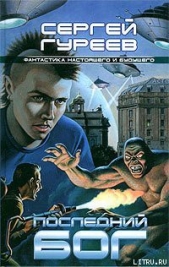Xирург

Xирург читать книгу онлайн
Предельно жесткая, беспощадно красивая проза, где история пластического хирурга Хрипунова переплетается с судьбой Хасана ибн Саббаха, персидского Старца Горы и основателя секты ассасинов, где никто никого не любит, где каждый одержим своими демонами накрепко и без всякой надежды на спасение. Это роман о безумии, смерти, зле и… красоте. И о том, что не каждые желания стоят осуществления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отдельный вопрос — чем можно упоить здоровенных горцев, чтобы незаметно допереть до дальней долины, это сколько же перевалов, сколько верблюдов, погонщиков, ишаков — сколько ненужных глаз и ушей! Да и как, спрашивается, упаивать, если каждый с молоком матери впитывал, что вино — это хамр? А то, что покрепче, и вовсе — мударр и хабаис. То есть не просто нельзя — невозможно. Все равно, что индусу сырьем сожрать священную корову.
Еще вопрос — а чего это так нешуточно вставляло юношам от пляшущих красавиц и кудрявых цветов? Или они никогда не спускались со своих гор в изнуренные буйным фотосинтезом долины? Или до Хасанова дворца не видели женщин? Нет, конечно, запретны им были в качестве жен их матери, дочери, сестры, тетки со стороны отца, тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, молочные матери, молочные сестры, матери их жен, падчерицы — их воспитанницы, с матерями которых они сошлись (а если не сошлись с их матерями, то нет греха, если женитесь на падчерицах); запретны жены их кровных сыновей, запретно жениться одновременно на двух сестрах, если это не случилось прежде, но с остальными-то — воистину, Аллах, прощающий, милостивый, — было можно. И даже нужно.
Но разве обыватели задают вопросы? Они просто болтают своими безмозглыми, бескостными языками…
Крючки.
Крючки для сердца парные. Крючки пластинчатые парные по Фарабефу. Крючок S-образный. Крючок глазной Крюкова. Крючок глазной четырехзубый острый. Крючок глазной, немагнитный. Крючок декапитационный. Крючок для глазных мышц с ограничителем. Для изоляции нервных стволов. Для оттягивания глазных мышц. Для оттягивания крыльев носа. Для радужной оболочки острый.
Когда на десятые сутки Хрипунов, наконец, пришел в себя, хрипуновская мама уже выговаривала его диагноз — пневмококковый менингит — без запинки и даже с некоторой гордостью. Весть о хрипуновской болезни ей принесла Нинка Бабкина с первого подъезда, жлобовка, знавшая подноготную ВСЕХ обитателей микрорайона с такой пугающей достоверностью, что поневоле на ум лезла всякая потусторонняя хрень. Хрипуновская мама только что пришла с работы и, по обыкновению своему замерла в крошечной прихожей у зеркала, сумеречно вглядываясь в невиданную, головокружительную темноту. Ах, все, все у нее было, как у людей — и кримпленовое платье по последней моде — чуть приталенное, чуть выше прекрасных монументальных колен, и песчаного цвета пыльник с актуальным хлястиком на гладком заду и — о чудо! — скрипучие, сморщенные, невероятным усилием добытые сапоги-чулки на безумно модных копытах, и нежное лицо, которое не могла изуродовать ни матрешечная косметика, ни шестимесячный перманент, скрипящий под расческой, как строительная стекловата…
Но как-то некстати это было, и не так грело душу, как обещано, да и вообще, признаться, во всей жизни что-то складывалось как будто против ее маленькой воли, немножко не совсем так — словно заботливо разложенная выкройка из «Работницы» чуть-чуть съехала с распятого на столе дефицитного отреза, на миллиметр всего и отодвинулась от намеченного портновским мыльцем великого пути, но этого оказалось достаточно. И прощай хороший вечер, прощай будущая юбка, прощай синеватая, толстая, с благородно-седым подшерстком стопроцентная шерсть. И то, что все — включая маленького Хрипунова — принимали за странное, отстраненное, остранненное равнодушие, было на самом деле мучительным и тщетным усилием понять — где, где дрогнула рука, вколовшая в ткань судьбы первую неправильную булавку, где она ошиблась, эта рука, и — самое главное — чья она и зачем так холодно во мглистой ее, исполинской, невидимой тени?
И когда 23 мая в дом к Хрипуновым шумно ворвалась вся распертая невероятной новостью Надька Бабкина и с порога (несмотря на шпану и химзоны в Феремове никто от роду не запирал дверей, во всяком случае, для Бабкиной это никогда не было проблемой), с порога прямо завопила, торопясь, как всегда, уложить в первом же предложении весь информационный блок — Танькя, рабенок-то мертвый у тебя! — хрипуновская мама вдруг ясно и разом поняла, что это правда, но поняла так страшно и вообще, что только у больницы и опомнилась, растрепанная, задыхающаяся, чуть не свихнувшая лодыжки в чудовищных своих, скользких сапогах-чулках. В больнице ее и слушать не стали, все равно в интенсивную терапию было нельзя (в какую терапию? Да в реанимации он у тебя, мамаша, русским языком тебе говорят — в ре-а-ни-ма-ци-и!). Но хрипуновская мама таким странным голосом твердила — скажите, он мертвый, скажите, он мертвый — словно приглашала врача поиграть с ней в «купи слона», и настолько не было в ее словах даже намека на вопросительную интонацию, что ей мигом воткнули какой-то успокоительный укол и даже разрешили посидеть внизу, в приемном покое, на кушеточке. И она посидела минут тридцать, но, к огорчению Бабкиной, не повыла, и даже не поплакала, а только старательно разглядывала грязноватый суриковый пол, а потом вдруг встала и ушла домой, чуть покачиваясь от лекарства, но в остальном совершенно спокойно. Совершенно спокойно. Как всегда.
Для хрипуновского папы менингит стал отличным и законным поводом для полноценного внепланового запоя. Впрочем, к тому времени он все чаще уже запивал по вдохновению, а не по строгому расписанию: алкоголизм его торжественно выплывал из пика второй стадии — навстречу делирию, веселеньким микроскопическим галлюцинациям и большому распаду, который и должен был, наконец, разрушить его печень, в которой у русского человека, как у сказочного Кащея, заключена и душа, и злосчастие, и самая жизнь. Хрипуновская мама немедленно и энергично отвлеклась на этот запой — в конце концов, в реанимацию ДЕЙСТВИТЕЛЬНО никого не пускали, потому ломать под больничными окнами белые крылья в то время, пока дома под угрозой бессмысленного и бездарного пропивания томятся недешевые, полезные и дорогие сердцу вещи, было НЕПРАКТИЧНО. Она вообще была не по-русски и не по-феремовски практична, эта странная хрипуновская мама, но практична без малейшей корысти — просто любила и жалела вещи, потому что они были красивые и надолго, а с людьми вокруг, угрюмыми, резкими, низкорослыми, вечно что-то происходило, да так быстро, что любить и жалеть их она просто не успевала.
В результате, Хрипунов, вынырнув из своей многодневной смерти, не увидел положенных родных лиц, осунувшихся от долгого бдения и залитых слезами тихого счастья, и потому долго не мог определить себя ни во времени, ни в пространстве, вися в мутной, сопливой слабости и потихоньку разминая затекшие и онемевшие от долгого неупотребления основные чувства. Жизнь, вырвавшаяся из него почти мгновенно — словно кто-то махом выбил днище у маленького бочонка — возвращалась медленно, осторожно трогая все кругом слабыми, неуклюжими, пугливыми щупальцами и чуть чего опасливо втягивая их назад… Сначала белое и неясное перед глазами сфокусировалось в скверно побеленный потолок больничной палаты, потом жжение в сгибе правого локтя оказалось капельницей, больно ужалившей в вену и не дающей шевельнуться, а жужжание вне и вокруг никак не объяснилось, но исходило явно из громоздкого аппарата, торчащего в ногах кровати. И когда Хрипунов с тихим удовольствием обнаружил собственные ноги, смирно и доверчиво лежащие под застиранным байковым одеялом, потолок над его головой вдруг затмила невероятная уродливая голова с перевернутыми, наоборот мигающими глазами и зияющим посреди лба шевелящимся ртом. Хрипунов даже вскрикнуть не сумел, парализованный инфернальным ужасом, как голова перевернулась, оказавшись толстой редкозубой медсестрой, которая, убедившись, что коматозный мененгитник пришел, наконец, в себя, торжественно уплыла куда-то за пределы видимого Хрипуновым мира, громогласно призывая на судный осмотр какую-то Люську, которая не верила и говорила, что помрет, а как помрет, ежели не обирался, вот ежели б обирался, то помер бы непременно, а так — врешь, примета наивернеющая…
Раскаты медсестры еще не скрылись за дверью, как Хрипунов, наконец, понял, что действительно жив, и что, пока он был мертвым, в мире произошло что-то странное, сделавшее его, мир, непонятным и даже неприятным, только Хрипунову пока было неясно — что, и в чем неприятность и непонятность, собственно, заключается. Потому он покорно дал примчавшейся Люське (она оказалась еще одной медсестрой, помоложе и значительно толще) себя ощупать и осмотреть, стоически и молча вытерпел несколько уколов и унизительный консилиумный осмотр еще трех теток в белых халатах, из которых одна была его лечащим врачом, а две другие — гинеколог и ушник — пришли просто от скуки и любопытства.