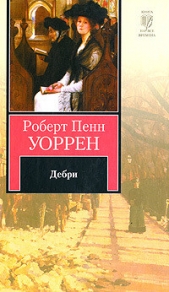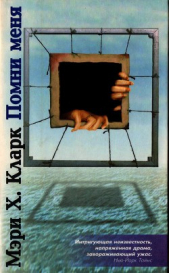Момемуры

Момемуры читать книгу онлайн
Я пишу это в Олстоне, графстве Мидлсекс, на берегу Атлантического океана. Хотя сказанное — очередная печать стиля, так как никакого океана ни из одного из семи окон моего апартамента не видно; и дабы начать лицезреть тусклое пространство воды в скучной оторочке осенних пляжей и поставленных на прикол яхт, надо проехать, по крайней мере, миль 15, не менее.
Но я действительно здесь, куда никогда не хотел ехать синьор Кальвино, о чем сделал соответствующую надпись на козырьке растрепанной географической карты Северной Америки в главе «Островитяне».
Я же, чтобы меня не увело опять в неизбежные дебри, должен сказать, чем отличается новая редакция, выходящая сегодня в нью-йоркском издательстве Franс-Tireur, от журнальной, опубликованной в четырех номерах «Вестника новой литературы», начиная с пятого, украшенного бравурной красной лентой Букеровского приза. Изменений в тексте немного: в рамках рутинного превращения в экзотику всего русского Энтони Троллоп стал Салтыковым-Щедриным, незабвенная Джейн Остин — Верой Пановой, кореянка Надя Ким — сибирячкой с густым несмываемым румянцем во всю щеку и т. д.
Плюс любимая писательская игра по ловле блох — тех орфографических ошибок, с которыми так и не справилась ни лучший редактор всех времен и народов Марьяна, ни чудная пожилая дама с абсолютной грамотностью, порекомендованная мне Мишей Шейнкером. Сложная ветвистая фраза, очевидно, обладает возможностью до последнего таить самые очевидные ошибки в тени стилистической усталости.
Но самое главное, «Момемуры» выходят тяжеловооруженные самым продвинутым аппаратом: два авторских предисловия, статья об истории написания романа, статья от комментатора имен, разные списки сокращений и — самое главное — роскошные, обширные комментарии. Их писали четыре разных человека, обладающие уникальным знанием о том, о чем, кроме них, сегодня уже почти никто ничего не знает, а если знает, не напишет — о К-2.
Надо ли говорить, что они были прототипами моих разных героев, или, по крайней мере, упоминались в тексте романа, почти всегда под придуманными никнеймами? Да и сама идея издать «Момемуры» с пространными комментариями, иконографией, иллюстрациями, даже DVD с музыкой, которую мы тогда слушали, и картинами, которые мы смотрели, также принадлежала тем героям романа, которые были моими друзьями до его написания и, конечно, после. (Хотя количество тех, кто обиделся на меня на всю жизнь, причем, имея на это множество оснований, поделом, как, скажем, Алекс Мальвино, таких тоже было немало.)
Алик Сидоров хотел выпустить десятитомное издание «Момемуров», чтобы роман превратился в игру: жизнь в подполье, полная неизведанных наслаждений, борьбы с КГБ, ощущения запойной свободы, которой больше не было, ну и кайф от творчества — поди, поищи такой.
Увы, даже наш Алик вынужден был подкорректировать замысел – не пошла ему перестройка впрок, не похудел, не побледнел, как-то обрюзг, разбух и давно уже согласился, что том будет один (самое большее — два), но с подробными комментами, фотками прототипов и серией приговских монстров из «Бестиария». Ведь именно он, на свои деньги, послал в Питер того самого лопуха *уевского, о котором упоминает Боря Останин в своей статье.
Но что говорить — нет уже нашего Алика, нет и Димы, то есть они есть там, в переливающемся перламутром тексте «Момемуров» (а я совсем не уверен, что перламутр лучший или даже подходящий материал для воспоминаний); но, к сожалению, данное издание будет без фотографий прототипов героев и их версий в «Бестиарии». Но и то немалое, что есть, стало возможно только благодаря Сереже Юрьенену, который взял на себя труд публикации сложнейшего текста.
Что осталось сказать? Я лучшую часть жизни прожил с героями «Момемуров», они научили меня почти всему, что я знаю, пока я, хитрый и хищный наблюдатель, исподволь следил за их жизнью. Благодаря им, я написал то, что написал. И сегодня кланяюсь им всем, даже тем, кто вынужден был взять на себя роли отрицательных персонажей или, точнее, героев с подмоченной репутацией. Но, конечно, главная благодарность им: Вите, Диме, Алику — синьору Кальвино, мистеру Прайхову, редактору журнала «Альфа и Омега». Если в моем тексте присутствует то, что некоторые остряки называют жизнью, то это только потому, что у меня дух замирал, пока я поднимался по винтовой лестнице очередной неповторимой, сделанной на заказ натуры – и восхищался открывшимся с перехода видом!
Поэтому я думаю, что мой роман о дружбе. То есть само слово какое-то мерзко-советское, хреновое, с запашком халтурных переводов по подстрочникам и дешевой гостиницы на трудовой окраине, но мы были нужны и интересны друг другу, и, это, конечно, спасало. И то, что этот хер с горы Ральф Олсборн позвонил-таки из таксофона в вестибюле филармонического общества Вико Кальвино и договорился о встрече, а потом понял, с каким редкоземельным материалом столкнулся, за это ему можно, думаю, простить и ходульность, и гонор, и дурацкий апломб. Не разминуться со своей (так называемой) судьбой — разве есть большее везение?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Представьте себе, — сказал профессор Стефанини, делая доклад на ежегодных панамериканских чтениях, — положение талантливого писателя, для которого литература не инструмент для бичевания порока и исправления заблудших душ, не средство заработать деньги или известность и не приспособление для духовно-эстетического онанизма. А единственный и естественный способ, прошу меня правильно понять, своеобразного мистического существования, уникальный опыт которого может быть — в случае удачи — понятен и важен для идущих следом читателей. Представьте положение этого писателя в жестоком и тоталитарном мире, причем я хочу обратить внимание не на социально-полицейскую сторону этой трагедии, а на ее метафизический план. Представьте себе одиночество, которое ожидает такого писателя в мире, где литература всегда воспринималась как инструмент борьбы, вроде мачете или кувалды, а писатели, по меткому определению одного генерала, делятся на пишущих и руководящих. И такое отношение к искусству впитано с молоком первого печатного листа, хочешь-не хочешь, а мохнатым илом осело в крови по сути дела всех читателей. Но в любом случае такое одиночество — завидно на редкость, до искусанных от зависти губ. Как в тесноте поэтического ряда слово подчас поворачивается новой гранью, так и гнилые пни фосфоресцируют только в полной, чернильной темноте. Да и что скрывать: ил илом, а шило в кармане не утаишь, и скажу честно: только в фантастической обстановке колониальной России создались подлинные условия для расцвета настоящих талантов, а о таком благодарном читателе, какой имелся в колонии, можно было только мечтать в старые монархические времена, а вам такое, господа хорошие, срать-пердеть-колесо вертеть, и не снилось. И скажу вам с последней прямотой: Ральф Олсборн — хоть и солнце колониальной поэзии, но...»
И несчастного профессора Стефанини, под улюлюканье собравшейся тут белоэмигрантской сволочи, что понятно каждому беспристрастному человеку, вывели под белы рученьки из зала, хотя фашиствующие молодчики из эмигрантского отребья пытались устроить над ним самосуд Линча и расправу. А наутро буржуазная пресса с лицемерным прискорбием сообщила о «некой якобы болезни всегда тайно сочувствовавшего марксистам известного слависта и русиста профессора Стефанини, перегипнотизированного большевиками и теперь поправляющего пошатнувшееся здоровье на даче герра Люндсдвига на Лазурном берегу». Знаем мы эти дачи.
ИНТЕРМЕДИЯ
Нет, нет и нет. Невозможно. И этот pidor makedonsky профессор Стефанини, и этот her s gory, майн херц, Люндсдвиг, и, пуще всего, не знаю как его назвать, сэр Ральф, — о, что за время, что за нравы! Как тут не вспомнить Катилину с его кателическим (не от Катона, старшего или младшего, образуя это слово, и не от католикоса, а от катализа) ядом, увлекшим слабое и порывистое юношество в катакомбы мысли и кататонию жизни. Как тут не выразить недоумение, не воскликнуть, не задаться вопросом: в чем каузальность этой нетерпимости, откуда эта жгучая каузалгия при соприкосновении с общественными вопросами, — и не должен ли писатель, это общественное животное, утруждать себя благородной задачей положительного влияния на взрастившее его общество, исправляя — в ответной любви — немногие из доставшихся ему по наследству недостатков. Умея извлекать из великого омута вращающихся образов завидные исключения. Не изменяя возвышенного строя своей лиры, а снисходя к бедным, ничтожным своим собратьям. И узреть сквозь их несовершенную природу будущего прекрасного человека, и создать вдохновенные и величественные образы, под стать той жизни, из которой они поднялись.
Разве это не благородная задача? Всемирным великим поэтом нарекут такого писателя, парящим высоко над другими гениями мира. И, рукоплеща, побегут вслед за торжественной его колесницей. Прекрасен, завиден удел его!
И, напротив, разрешите предложить такую конъектуру: нет ли здесь обратной конъюнктуры, если писатель, погрязнув в страшной, потрясающей тине мелочей, субъективно запутавшись в глубине холодных, раздробленных, повседневных характеров, дерзает выставить на всеобщее обозрение лишь свое и чужое несовершенство, не согретое, как мы видим, общественными заботами. Такому горе-писателю не собрать народных рукоплесканий, не зреть признательных слов и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему, поверьте, не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившейся головой и геройским увлечением; ему не избежать, наконец, праведного суда, который назовет его ничтожным и низким и справедливо отведет ему презренный угол в ряду тех, кто оскорбляет человечество, и также справедливо отнимет у него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество, но поздно. И не помогут ему лицемерные защитники, спрятавшиеся под покровом международной общественности и юрисдикции, ведь и злопыхательствует он, скорее всего, ради разных стефанини, люнсбергов и люнсдвигов, которые будут лить крокодиловы слезы, хотя именно им, гневно упрекнув, посоветовал наш колониальный Некрасов: «вы все тужитесь наружу, а надо б тужиться вовнутрь». Недопустимо. Неправомерно. Бестактно, если хотите. И не литература это, а клевета на литературу, когеррентная неправде. И не художество, а жалкий балаган. Не согласен. Протестую. Читатель, недоумевая, возмущен, искренне желая понять и осудить.
И потом, если говорить конкретно и, если так можно выразиться, документально, не отходя от текста ни на шаг или даже йоту, посмотрите. Сначала вы вели речь о некоем существе, которое ворочается в своей постели, когда за окном непогода, крутит и вертит, буря, мгла, ветер воет, проникая во все щели и даже сквозь ноздри электророзетки (что, надо сказать, малоубедительно), за окном наводнение, хотя мы не помним наводнений в сентябре, а если в сентябре, то почему домашние, как в стихах, в разброде, ибо им давно уже полагается перестать разбредаться и начать сбредаться, но это все детали и частности, Бог с ними, пусть он крутится и вертится, не находя себе места в родовых или преждевременных муках, или же ожидая и опасаясь неизвестно чего (теперь-то понятно чего, да и не зря).
Но: вы его назвали неизвестным писателем и с этим, скрипя сердцем, как новым седлом, можно согласиться; затем незаметно соскользнули на понятие — наш писатель, что малоубедительно, если не сказать больше; а потом и вовсе стали величать его будущим лауреатом, что совсем уж ни в какие ворота, ибо сразу стало непонятно: в каком смысле вы употребляете слово будущий — в том, что он когда-то был неизвестный и про него никто достоверно не знал: будет он или не будет, а потом он взял да и стал — в каких целях, это нам понятно, знаем мы эти премии, нагляделись; или же наоборот: он был неизвестным, неизвестным и остается или оставался, а будет он или не будет, это еще как сказать, никому не известно, бабушка, как говорится, надвое сказала, и тогда я категорически не понимаю, выражаю свое решительное сомнение или даже, если хотите, возражение. А так получается, что ваши понятия шалят и прыгают, как стрелка у прибора, показывающего бурю?
И даже если вы хотите спрятаться за давным давно скомпрометированную позицию: мол, мы только изображаем, описываем, так сказать, беспристрастно, и ничуть не больше, только как чистый предмет, за него, как сын за отца или отец за сына, не отвечая, совсем не имея гордой мечты заделаться исправителем людских пороков (мол, нам это не по силам, и дай Бог слабой рукой набросать портретик, да еще, точно не одного как бы человека, а целого поколения, конечно, порочного) и в полном их развитии и становлении; то и тогда, если цель ваша мелка и такова, то надо как бы больше определенности, мыслей, полета, смело отделяя себя от, так сказать, предмета исследований, и, конечно, проясните, уважаемый, свое мировоззрение. А то, честное слово, непонятно, если не сказать подозрительно, сомнение, признаюсь, берет в самой авторской позиции или, как говорят, установке. Поэтому, если возможно, поясните. И пролейте, как водится, свет.