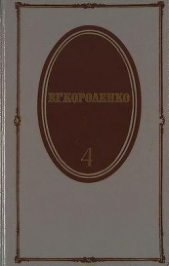По следам судьбы моего поколения
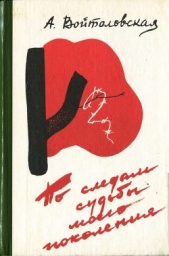
По следам судьбы моего поколения читать книгу онлайн
А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.
Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.
Книга рассчитана на массового читателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потребовала, чтобы письмо Ревуненкова ко мне, где он уверял, что «подлятинки в его поведении не было» пришили к моему делу как доказательство его двурушничества. Прочел ли письмо Райхман, не знаю, но мне удалось выбить козырь из рук следователя. Впрочем, Ревуненков давал показания не на одну меня и не одному следователю.
Вопросы задавались нарочито непоследовательно, чтобы сбить, касались множества лиц то близких, то едва знакомых.
— Какие поручения давали вам контрреволюционеры Горловский и Зайдель (профессора университета и ЛИФЛИ), когда вы ездили в Москву под видом хлопот по поводу выселения?
— Конечно, никаких. Горловский руководил моей темой по диссертации, иных разговоров не было. Зайделя лично не знала.
— Где вас обучали методам, которыми действуют убийцы из-за угла? — громит Райхман. — Так нате показания Зайделя. — Следователь как бы в страшном волнении ищет бумаги, вытаскивает какую-то папку, лихорадочно листает страницы, читает… Ни мне, ни Зайделю и во сне не могли присниться те бредовые вещи, о которых он упоминал завывающим голосом, чередуя то мою фамилию, то Зайделя. Но все было настолько невероятным и Райхман настолько путался, что подделка была почти очевидной.
— Дайте очную ставку, — говорю я.
— Будет, будет и очная ставка…
И так ночь за ночью. Произвол не как отвлеченное понятие, совершающийся где-то, над кем-то, а вот тут, на глазах, над тобой. Томление, усталость, бессилие, злость, пустота в голове, но желание выстоять не слабеет, а крепнет.
Со стороны следователя ложь и обвинения во всех грехах не по неведению или заблуждению, а ложь и клевета, сознательно и заранее обдуманные, как и маниакально-накаленная атмосфера допросов, выворачивание фактов наизнанку, как извращенные методы и приемы ведения следствия. Такое следствие никак не назовешь ни правосудием, ни судопроизводством, — чистейшее оголенное циничное беззаконие.
Я страдала, но и думала: аресты не случайны, не ошибки, апеллировать некуда, взывать не к кому, все это глубокие и далеко идущие исторические явления.
Как-то в другой раз Райхман берет телефонную трубку, набирает номер, веселым домашним голосом спрашивает: «Лизанька, Машура спит? Перегнись через сетку и поцелуй ее в щечку». Он не смотрит на меня, но разговор ведется для меня, бьет на материнские чувства. Аляповато, бесцельно. Я одеревенела. Молчать, как можно больше молчать — в этом моя задача. И ни о чем не просить.
— На какие средства вы существовали с детьми без работы?
— Какое это имеет значение?
— Не вы меня спрашиваете, а я вас, не рассуждать, а отвечать!
— На случайные заработки. (Может быть, он и знает о работе в библиотеке, но я не хочу о ней упоминать, ведь кто-то дал мне эту работу.)
— Врете! Зарабатывали гроши, а Карпову отправили три посылки, каждая из которых превышает ваш заработок. Отвечайте, сколько денег и через кого вы получали из контрреволюционного подполья? — Крик, стук, ругань… — Так на какие средства жили?
Иной раз вместо того, чтобы сомкнуть губы и молчать, сорвется что-нибудь с языка, чтобы отвязался, а пустяк окажется зацепкой для следователя.
— Одалживала деньги, но я уже все отдала, приступив к работе в Новгороде.
— Значит, соврали! Прекрасно, так и следовало ожидать! У кого одалживали?
— У родных.
— У кого из родных? У Дрелинга одалживали?
Молниеносно проносится в голове: он уже сидит, следовательно, известно, что мы близкие родственники, а другие на воле, значит скажу — да.
— Одалживала.
— Значит, у вас с ним были подпольные денежные дела. Значит, получали через него. Отлично, запишем.
— Позвольте, при чем тут подполье? Мы знаем друг друга с двух лет.
— Я с вами не в бирюльки играю! Вместо того, чтобы откровенно признаться и разворошить еще одно осиное гнездо контрреволюции, вы осмеливаетесь говорить о мещанских добродетелях ваших друзей. А ваша сестра, его жена, знала, что он вам одалживал деньги?
Теперь стоишь перед другой дилеммой: сказать, что знала, значит, и ее включить в «группировку», сказать, что не знала — еще нелепее.
— Не знаю.
— Ага, она не знала! Подтверждение того, что у вас были тайные подпольные делишки с Дрелингом…
Все, о чем рассказываю, не дурной анекдот, а правда. Именно из таких подделок складывались малые и большие «дела» и «контрреволюционная деятельность» сидящих. Между тем, что говоришь следователю, и тем, что он записывает своей рукой, существует чудовищное несоответствие, подчеркиваю — чудовищное — и потому вся энергия, воля, все силы уходят на споры по поводу каждого записанного им слова или фразы. Такие неравные споры длятся иногда сутками. Аргумент следователя неизменен — «на языке контрреволюции звучит так, а я как представитель революционной власти понимаю ваши слова совсем иначе». Человеческий язык не существует…
Райхман делает незначительные уступочки, которые ничем не лучше ни первого, ни десятого варианта, чаще он и слушать не желает. Причем, если ты не подписываешь протокола, твоя подпись так или иначе оказывается под протоколом без твоего участия.
Следователь уходит есть, пить, спать, развлекаться, получать инструкции, согласовывать, сопоставлять, мучить других, а подследственный сидит в «думалке» или в камере до следующего вызова ночью. Следствие упрощено до примитива: ни доказательств, ни документов, ни свидетелей (последние призываются лишь в тех случаях, когда в них нуждается обвинение), ни защитников. Над нами велось следствие, как над людьми негласно объявленными вне закона. Утверждалась лишь в одном: что бы ни произошло, всегда и везде существуют безотносительные моральные принципы, которым следует подчиняться неукоснительно.
Начиная с конца апреля по ночам меня будили дикие крики, площадной мат, лающие голоса, стоны, плач, причем всегда плач мужской. После полной тишины в одиночном корпусе не могла дать этому объяснение — то казалось, что это бред, то мистификация для наведения страха. Но звуки были реальностью, очевидно, тюрьма переполнена, и следствие уже ведется в кабинетах где-то близко. Перестала спать и в те ночи, когда оставалась в камере. Просыпалась с ноющей тошнотой, переходящей в рвоту, стоило мне приподнять голову.
Вскоре меня начали выводить на прогулку — через день на пять минут. Выводили гулять, как мне кажется, через камеру. Обратила внимание на прелестную молодую женщину, шедшую через человека от меня (значит, из 16-й камеры— номера камер идут так: 20, 18, 16 и т. д.) — чистое, гордое лицо, очень бледное, со спокойной улыбкой, две большие темные косы, переброшенные на грудь, взгляд ясный, мягкий. Спускаясь по лестнице, поймала ее взгляд, я была новенькой на прогулке. Гуляли, как обычно, по кругу, не останавливаясь, заложив руки назад. Меня шатало, а незнакомая молодая женщина с видным удовольствием искоса глядела на солнце, что различала по повороту ее головы. В общей камере позднее узнала от заключенной Кулагиной, которая с ней некоторое время находилась в «двойнике», что женщину звали Зоя Б-ва, она журналистка, закончила Институт красной профессуры, бывала за границей и сидит с января 1935 г. почти все время в одиночке, на редкость спокойная и волевая. На меня же, к моему стыду, одиночка действовала прескверно. С детства не переносила замкнутых помещений, в тоннелях делалось дурно, в толпе терялась, в одиночке — замкнутости через край, и я задыхалась. Говорить об этом было бесполезно, да и унизительно. Самочувствие ухудшилось. По утрам появились, рвоты желчью с кровью и головокружение. К врачу обращаться не хотела.
26 апреля в тюрьме вспыхнула обструкция. Тюрьма всегда горючий материал. Тюрьма периода 1930-х годов представляла собой человеческий сплав, предельно накаленный мучительными вопросами, немыслимыми противоречиями, парадоксальностью и несовместимостью с тем, кто сидел. Люди, творившие революцию, и их ближайшее окружение обвинялись в злодеяниях против революции именем народа. Этого нельзя было ни понять, ни принять. У всех нервы не выдерживали. Поздно вечером, часа через два после отбоя, раздался резкий, как выстрел, женский вопль: «Где мой муж? Где мой муж?». Затем звон разбитого стекла. Отчаянные стоны, рыдания неслись отовсюду и в минуту, как пожар, охватили весь тюремный двор, все этажи. Казалось, из всех отверстий неслись неистовые стенания, проклятия, жалобы; о решетки ударялись железные кружки, и сыпались с треском стекла. Чтобы не поддаться безумию, не влиться в стадный животный поток и прервать дьявольское трепетание нервов, вскочила коленями на койку, врыла голову в подушку, натянула на нее сверху одеяло, заткнула уши и стояла на четвереньках может быть час, а может быть и три часа, не могла отдать себе отчета во времени. Во всяком случае, меня долго никто не тревожил, несмотря на полнейшее нарушение тюремных правил. Повидимому, всю обслугу стянули в буйствующие камеры. Очнулась, когда кто-то качнул меня. Упала к стене. Мужской голос: «Лягте, как положено, что вы делаете?». Он вышел. Дверь закрылась. Кругом абсолютно тихо. Наступила полная и страшная после криков тишина. Она давила неизвестностью. Будто кругом ни души. Вытянулась на койке и ждала поворота «глазка», как проявления жизни. Незаметно провалилась в сон…