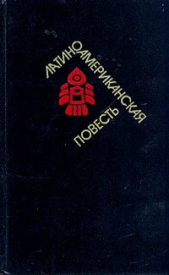Ты помнишь, брат

Ты помнишь, брат читать книгу онлайн
Хоакин Гутьеррес родился в 1918 году в городе Пуэрто-Лимон. Многие годы его жизни прошли в Чили, здесь же вышла и первая книга Гутьерреса — «Кокори», получившая первую премию за произведения детской литературы. В качестве корреспондента центрального органа Коммунистической партии Чили газеты «Сигло» Гутьеррес работал в ряде социалистических стран, в годы Народного единства возглавлял издательство Коммунистической партии Чили «Киманту». Является автором романов «Мангровые заросли» (1947), «Пуэрто-Лимои» (1950), «Посмотрим друг на друга, Федерико» (1973).
Хоакин Гутьеррес — видный представитель революционной литературы Латинской Америки. Публикуемый роман «Ты помнишь, брат» (Гавана, «Каса де лас Америкас», 1978) был удостоен первой премии конкурса «Каса де лас Америкас» на Кубе (1978). В основу романа, в котором воссоздаются эпизоды борьбы чилийского народа против диктатуры Гонсалеса Виделы в 40-50-е годы, положены автобиографические события. Важное место в романе занимает тема писательского труда и становления новой латиноамериканской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Огромная туфля Маркиза пролетела над моей головой, стекло балконной двери уцелело чудом.
Точнее целься, растяпа. А вот скажи лучше, что ты Во свинство про меня рассказывал?
— Про тебя?
— Да, про меня.
— Я — про тебя? Столь незначительные темы меня не занимают.
— Ты уверен?
— Еще бы. Неужто ты в самом деле воображаешь, будто твоя персона может представлять для кого-то интерес и служить предметом беседы?
— Тогда скажи другое: не собираешься ли ты описать свои похождения в Боливии?
Маркиз замер на своей кровати:
— Сам пиши. Я могу тебе все рассказать. — Он лег и одной туфле, потом высунул из-под одеяла ногу, сбросил туфлю (я впервые увидел страшный шрам у него на икре).
Маял туфлю, подержал некоторое время, поглядывая на меня, потом швырнул ее в дверцу гардероба и повернулся лицом к стене.
Так ты же сразу врать начнешь. Я уже давно заметил: ты думаешь на один манер, чувствуешь — на другой, а живешь — на третий. Словно утконос.
Это еще что за фигация?
Зверь такой, очень редкий. Живое ископаемое. Свинья, откладывающая яйца, млекопитающее с утиным клювом…
— Как же можно сосать молоко клювом, идиот!
— Есть такой. Можешь посмотреть в энциклопедии.
— И как, ты говоришь, он называется?
— Утконос.
— Ну так ты возьми себе это слово вместо псевдонима. Педро Игнасио Утконос. А то Педро Игнасио Паласиос — хуже не придумаешь. Папаша твой здорово, видно, был чокнутый, что так тебя окрестил. Впрочем, для таких дерьмовых рассказиков…
— Ладно, ладно. Псевдоним неплохой. Мне нравится.
Я подумал, что, когда злость остынет, Маркиз станет опаснее. Пусть лучше сразу выльет на меня все.
— Кстати, скажи-ка, как ты провел ночь. Шикарно, наверное?
Он не моргнул глазом:
— Сколько раз вы с ней?
— Не мучь себя.
— Не в том дело. Просто мне надо рассчитать свою месть.
Мы молчали. Головная боль у меня прошла, но теперь на меня напал вдруг голод. Я предложил Маркизу пойти куда-нибудь. Он отрицательно покачал головой. Тогда я оделся, вышел, у киоска на углу съел порцию яичницы с ветчиной и выпил бутылку пильзенского пива. А карманы набил всякими булками… Но мыслить сколько-нибудь связно я все еще не мог. В голове словно царапался кто-то. И как иногда черные точки плывут и плывут перед глазами, исчезают и набегают вновь, так и она стояла все время перед моим взором — нежное тело в хлопьях мыльной пены, тонкая кожа светится изнутри, будто китайский фонарик. Горят весельем жучки-глазки, и слышится смех. Она, проклятая, самого Альфонса Мудрого [47] могла бы охмурить.
Думать о Маркизе мне было трудно.
А может быть, не хотелось.
Я подошел к газетному киоску, попросил газету — почитать. Товарищ, работавший там, тайно торговал нашим еженедельником и разрешал мне даром просматривать газеты и журналы.
— Видали, товарищ? Китайцы Кантон взяли!
— Да, да, прекрасно! — Я стал смотреть, что идет в кино. Ничего интересного. Сплошная ерунда. Только один вечерний сеанс — «Разбойник» Сандрини. Может, пригласить Худышку? Она любит фильмы Сандрини, хохочет всегда, как сумасшедшая. Где этот кинотеатр?
На Систерна. А вот глядите: в Риме обнаружили Останки святого Петра.
Не выйдет, черт возьми. Очень уж далеко. Что далеко? — Не Рим, конечно. Я про кинотеатр говорю.
Я поблагодарил киоскера — мы крепко пожали друг другу руки, по случаю взятия Кантона, надо думать, — и пустился бродить по улицам центра. Начинало темнеть.
Все еще не мог я опомниться. Постоял, прислонясь к фонарному столбу, выкурил пару сигарет. Потом стал разглядывать витрины: у Гобелинос — модные рубашки, цены просто бешеные, на Ла-Виль-де-Нис — пиджаки de colele [48], холодильники, набитые аппетитными на вид восковыми фруктами и овощами… На Аламеде какой-то шарлатан с живой змеей, обвитой вокруг шеи, пытался всучить прохожим чудодейственную мазь, помогающую от простуды, от рака, от рожи… Вернулся я домой по улице Бандера.
Воскресными вечерами улицы центра кажутся особенно печальными. Веет от них цепенящей тоской, словно от старого семейного альбома, где вечно улыбаются кому-то давным-давно покинувшие наш мир прабабки; валяются в грязи лотерейные билеты — бедные, хрупкие надежды человеческие; мертвенно-бледные существа ползут по тротуару, мечтают, пусть хоть что-то произойдет, пусть даже беда какая-нибудь, лишь бы всколыхнулась бесцветная их монотонная жизнь; ветер волочит по земле старые газеты, колышет занавеси, за окнами — пустота, только слышно, как сонные мухи жужжат. Я сворачиваю за угол, слышу издалека чьи-то шаги, долго отдаются в ушах чавкающие сырые звуки. Худенькие женщины с опущенными глазами торопливо стучат каблучками; встретившись со мной, они осеняют себя крестом, словно какой-то безымянный грех гонится за ними. И окаянная эта воскресная тоска охватывает душу, облепляет, будто жевательная резинка.
Я надеялся, что Маркиз уже спит. Но нет. Он по-прежнему лежал на спине, заложив руки под голову, глядел не отрываясь в потолок.
— Ты еще не спишь? — Он не удостоил меня ответом. — А я думал, ты устал. — Я начал раздеваться. — С этой теткой, наверно, не так-то легко тебе было. Чтоб эдакая гора мяса осталась тобой довольна… — Он задышал чаще. — До каких пор ты будешь дуться?
В эту минуту серый шарик с круглыми глазками, скорей красными, чем черными, метнулся по диагонали через комнату — храбрый мышонок! Как стрела промчался он перед нашими глазами. Маркиз вскочил с дьявольской ловкостью, бросился вслед, прыгая на одной ноге. Бедный мышонок обезумел от ужаса. Не зная, куда деться, сунулся было под мою кровать, но Маркиз достал его ногой, мышонок выскочил и застыл в отчаянии, неподвижный, тихонько попискивая, поднял передние лапки, словно хотел закрыться, не видеть своими глазами приближающуюся гибель.
Удар носком туфли в брюшко. Отвратительное розовое пятно тотчас расползлось по стене. А рядом — серенький шарик, вздрагивающие в агонии лапки.
Маркиз вытер штаниной туфлю и снова улегся.
— Что тебе сделал мышонок, несчастный? Что тебе сделал бедный зверек?
— Ничего.
— Зачем же ты его убил?
— Если бы он мне что-то сделал, никакого интереса бы не было его убивать.
— Не понимаю. Некоторые твои поступки я, говоря откровенно, просто отказываюсь понимать. И не только отказываюсь понимать, а они мне глубоко отвратительны.
Маркиз вызывающе улыбался.
— Ах, ты не понимаешь? Не догадываешься, что такого рода вольные упражнения спасают тебя от излишней чув-ствительности? Взгляни-ка на это пятно на стене. Гляди! Красная капелька расплылась по белой штукатурке, чудесный получился рисунок. И пойми: с таким нежным сахарным сердечком ты далеко не уедешь. Займись лучше разведением канареек!
— Ах, вот что? Сукин ты сын, нигилист сумасшедший! Ладно, убивай мышей, раз ты считаешь, что таким образом… Великолепное ремесло. Но тогда начни хоть писать по крайней мере!
— Я? Писать?
— Да, Маркиз, пиши! Пиши! Ты можешь создать хороший роман. Горький, жуткий, конечно, но хороший.
— Так вот ты мне что предлагаешь?
— Да. Попытайся. Ты же ничего не теряешь. Если не удастся… Ну и ладно, одной неудачей больше.
Маркиз побледнел как смерть:
Писать? Стать, значит, сообщником? — Сообщником? Чьим?
Как это чьим? Кто меня будет читать здесь? Неграмотные крестьяне? Рабочие, которые в неделю зарабатывают столько, сколько стоит одна книжка? Читать меня будут те, кто избивает нас палками, гноит в тюрьмах. Если они восхищаются твоими писаниями, значит, считают их безвредными. Если дают тебе стипендию или какое-нибудь Местечко, значит, уверены, что тебя можно купить, ты продаешься и становишься придворным шутом, а они посмеиваются у тебя за спиной. Ты что же мне предлагаешь? Чтоб я их забавлял? Как обезьяна в клетке? Как дрессированная собачка? Где же твоя пресловутая идейность, о которой ты везде трубишь?