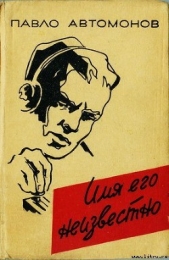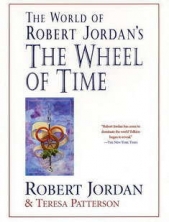Три грустных тигра

Три грустных тигра читать книгу онлайн
«Три грустных тигра» (1967) — один из лучших романов так называемого «латиноамериканского бума», по праву стоящий в ряду таких произведений, как «Игра в классики» Хулио Кортасара и «Сто лет одиночества» Гарсии Маркеса. Это единственный в своем роде эксперимент — опыт, какого ранее не знала испаноязычная литература. Сага о ночных похождениях трех друзей по ночной предреволюционной Гаване 1958 года озаглавлена фрагментом абсурдной скороговорки, а подлинный герой этого эпического странствия — гениальный поэт, желающий быть «самим языком».
В 1965 году Кабрера Инфанте, крупнейший в стране специалист по кино, руководитель самого громкого культурного журнала первого этапа Кубинской революции «Лунес де революсьон», уехал с Кубы навсегда и навсегда остался яростным противником социалистического режима. Сначала идиологические препятствия, а позже воздействие исторической инерции мешали «Трем грустным тиграм» появиться на русском языке ранее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Встав у «Лас-Вегаса», я подошел к кофейному ларьку и повстречался там с Ласере и сказал ему, Здоров, Роландо, как оно, а он ответил, Все путем, приятель, и мы разговорились, я объявил, что собираюсь снять его вот так, за чашкой кофе, как-нибудь вечером, потому что выглядел Роландо шикарно, настоящим певцом, настоящим кубинцем, самым что ни на есть настоящим гаванцем в своем белом тиковом костюме и маленькой соломенной шляпе, надвинутой так, как одни только негры умеют надвигать, кофе он пил с превеликой осторожностью, чтобы не залить безупречный костюм, слегка отклячившись назад, тянулся губами, в одной руке чашка, а другая на прилавке, пил по глоточку, и я попрощался с Роландо, Давай, сказал я, а он ответил, Не пропадай, приятель, и только захожу я в клуб, как угадайте — кто попадается мне в дверях. Не кто иной, как Алекс Байер, идет мне навстречу, машет и говорит, А я тебя ждал, весь из себя такой изящный, культурный, элегантный, и я говорю, Кого, меня? а он мне, Да, тебя, а я, Хочешь заказать фотосессию? а он, Нет, хочу с тобой переговорить, а я, Ну, говори, раз так, а то поздно будет, а сам думаю, дойдет до скандала или нет, с этими никогда не знаешь, к примеру, когда Хосе Мохика был в Гаване, он гулял по Прадо под ручку с двумя актрисами, или певицами, или просто знакомыми девушками, и какой-то тип со скамейки крикнул ему вслед: Пока, три красавицы, и Мохика с очень серьезным видом, как и положено мексиканскому актеру, чеканно, как будто на сцене, прошагал к скамейке и осведомился, Что вы сказали, сеньор, а парень ему, Что слышал, сеньора, и тут Мохика, он же был огромного роста (может, и сейчас такой, он жив еще, но люди всегда к старости усыхают), поднимает его над головой на вытянутых руках и швыряет на мостовую, точнее, на газон между оградой бульвара и мостовой, и пошел дальше гулять как ни в чем не бывало, непринужденно и ослепительно, будто исполняя своим мохиканским речитативом «Поклянись мне», в общем, не знаю, может, Алекс подумал о том же, что и я, или о том же, что и Мохика, или просто подумал, сам по себе, только он залучился улыбкой и сказал, Пошли, а я, У стойки сядем, а он покачал головой, Нет, про это лучше на улице, а я, Ну, давай тогда в машине моей, а он снова отнекался, Нет, давай прогуляемся, такая прекрасная ночь, и мы двинулись по улице Пэ, идем, и он вдруг опять, Хорошо гулять по Гаване такой ночью, правда ведь, я киваю и, Да, конечно, вроде прохладно, Да, отвечает, прохладно, так чудно, я часто гуляю, нет лучшего тоника для физического и духовного здоровья, а пошел бы ты, думаю, делать больше нечего, кроме как шататься тут со мной и корчить из себя сраного гуру.
Мы шагали, и навстречу нам из темноты вышел Хромой с Гардениями, на костыле, с лотком гардений и этаким особым «доброй вам ночи», исполненным учтивости и известной тонкости, более искренней, чем может показаться, а на следующем перекрестке я услышал пронзительный, гнусавый, безжалостный голос мексиканского пастуха Хуана Чарраскеадо, распевающего единственную строчку из песенки о себе же, в стотысячный раз, Обрати внимание, обрати внимание и обрати внимание, Обрати внимание, обрати, чтобы ему кидали мелочь в пропотевшее сомбреро, с которым он настырно обходит местных завсегдатаев, создавая некую нервозность в обстановке, впрочем, слабенькую, поскольку каждый знает, что Хуан больной на всю голову. Мне попалась на глаза вывеска ресторана «Гумбольдт Клуб», и я подумал о Звезде, она всегда там столовалась, и о том, что сказал бы прославленный барон, заново явивший миру Кубу, если бы узнал, что его свели к названию одного ресторана, одного бара и одной улицы в этом краю, который он если и не открыл, то уж приоткрыл всяко. Бар «Сан-Хуан» и клубы «Тикоа», «Ворона и лисица» и «Иден Рок», куда однажды по ошибке спустилась пообедать негритянка, а ее выперли, слили, под тем соусом, что она не из сливок общества, где она, а где сливки, и тогда она принялась вопить ЛитлРокЛитлРокЛитлРок, потому что заваруха с губернатором Фобусом была тогда на слуху, и разразилось черт знает что, и «Грот», где у всех глаза светятся, этот бар, он же клуб, он же бардак, населен глубоководными рыбами, и «Пигаль», или «Пигяль», или «Пигаллль», так и так и так говорят, и «Вакамба Селф Сервис» и «Маракас» с английским меню и меню в витрине с неоновыми китайскими буквами, Конфуций ногу сломит, и «Сибелес» и «Кольмао» и отель «Фламинго» и «Фламинго Клуб», и на углу Н и Двадцать пятой я замечаю четырех стариков в майках, играющих в домино под фонарем, и улыбаюсь, смеюсь даже, а Алекс спрашивает, над чем это я смеюсь, а я, Да ни над чем, а он, А я знаю, над чем ты смеешься, а я, Ну-ка, а он, Над поэтичностью этой четверки, и я думаю, Ды ты, бля, эстет, как Бетет, был такой у нас в газете, испанец, вел культурную хронику, и всякий раз, когда его называли корреспондент Бетет, он отвечал, Какой к хренам Бетет, я эстет, в итоге все его стали звать Ебтет, до ебт он был охоч, что правда, то правда. И тут я соображаю, что Алекс так ничего и не сказал, и напоминаю ему, а он говорит, не знает, как начать, а я, мол, чего проще, Начинай с начала или с конца, а он, Вот ты журналист, а я ему, Нет, вообще-то фотограф, Но работаешь на газету, это он мне, а я, Ну да, на газету, есть грех, а он, Ладно, начну с середины, а я, Ладно, а он, Ты ведь не знаешь Звезду, а распускаешь ложные слухи, так что давай я расскажу, как все есть на самом деле, и я не обижаюсь ни капельки и вижу, что и он ни капельки не обижен, и говорю, Отлично, можешь начинать.

Там было три санатория, все рядом друг с другом, и я зашла в крайний, на открытую террасу с деревянным полом, у стенки стояло много кресел, в которых люди дышали свежим воздухом и разговаривали и спали. Я кого-то спросила, уже не помню кого, и мне сказали посмотреть на пляже. Я вышла на улицу, солнце жутко пекло. Все кругом было белое от солнечного света, трава пожухла. К пляжу нужно было идти налево, подальше, я пошла и вышла на спокойный пляж, волны там выбегали далеко на берег и возвращались в море и снова тихо наползали. На берегу играла собака, но потом она вроде бы уже не играла, потому что вдруг побежала через весь пляж и сунула морду в воду, и тут я увидела, что от нее валит дым: валит дым от морды и от спины и от хвоста, прямо как от факела. А потом был деревянный дом, очень бедный, справа, а небо, которое минуту назад было как теплой зимой, посерело, и по нему шла туча, всего одна, пухлая такая, большущая и мягкая, и ветер дул, а дождь шел или нет, не знаю. Смотрю, прибежали еще две собаки, сначала ко мне, от них тоже шел дым, а потом в воду. Потом они, по-моему, пропали. Я завернула за угол дома, потом за другой, потом за третий и увидела двух или трех собак, они крутились вокруг костра и совались в него мордами и старались что-то оттуда вытащить. Одна за другой, обожжется и убегает к морю, море теперь было вдалеке. Я подошла и увидела, что в костре еще одна собака, горит огнем, громадная, валяется в костре кверху лапами, вся вздулась, и некоторые места, лапы там, обуглились, и ни хвоста, ни ушей не было, наверное, совсем обгорели.
Я стояла и глядела на горящую собаку, а потом вроде бы решила зайти в дом, через дверь, которая выходила на площадь, где жгли эту собаку (потому что это была площадь, а собака горела на куче песка), сказать кому-нибудь. Я постучала, никто не ответил, и тогда я открыла дверь. Внутри, прямо у входа, стояла огромная собака, почти с теленка, с косматой головой и острыми ушами, грязно-серая, страшенная. Глаза у нее, по-моему, были красные или, может, светились, потому что в комнате или в зале было очень темно. Когда я приоткрыла дверь, она поднялась, зарычала и пошла ко мне. Я уже хотела закричать, но тут поняла, что она идет мимо меня, отпихивая всей тушей дверь. Она побежала к куче, где горела собака, и все ей нипочем, сунулась прямо в огонь и стала кусать ту собаку. Я помню, она стояла с куском дымящегося мяса в зубах. Потом снова схватила ту собаку и подняла ее, а та была почти такая же большая, да и то только потому, что у нее некоторых кусков не хватало, сгорели. Живая собака вскинула мертвую над огнем, подняла ее без труда и побрела с ней назад к дому, и ни одна часть тела мертвой не волочилась по земле. Наверное, они прошли совсем рядом со мной — я стояла как вкопанная, — но я ничего не почувствовала.