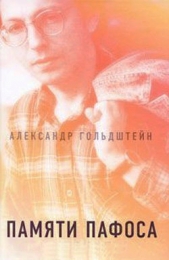Помни о Фамагусте

Помни о Фамагусте читать книгу онлайн
Новая книга известного прозаика, эссеиста Александра Гольдштейна («Расставание с Нарциссом», НЛО, 1997, премии Малый Букер и Антибукер; «Аспекты духовного брака», НЛО, 2001, шорт-лист премии Андрея Белого) — затягивающий, необычный роман, в котором сталкиваются разновременные пространства, от Сергиева Посада до Закавказья, от Кипра до Палестины, а также фантасмагория и сатира, гладиаторский цирк и православный монастырь, толкование идей и исповедальные приключения плоти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С северо-запада приближаясь к увеселительным пролежням Парапета, вы, если бы в результате ненужных вам околичностей одолели подъем и, взойдя на пригорок, окинули разостланный спуск, не могли б не заметить подчинарное скопище, которое в том освещении, разном от времени года и всегда одинаковом, показалось бы вам черной кашей. Цвет черный, не спорю, преобладал, но толпа, вам придется забрать ваше мнение, не была однородной, в ней, словно в Галлии, прорубцевались три части, три гордо приникших к своей самобытности категории, три неслиянные публики среди всякого, тоже гетерогенного люда. Историк проследит, как изменялись они в циклах времен, я, современник, этой возможности не имею.
Первую категорию заполняли упитанные. Одевались добротно, в пальто, недоступные в городе многим, пыжиковые шапки носили и дома, недомогая или для как такового согрева, а дубленку монгольскую дома не надевали, магометанин, выбирая из двух утепляющих благодатей, предпочитает шапку пальто. Часто улыбались их лица. Кротость округляла животы, филейные ляжки, заплывшие подбородки и шеи. Звезда удовольствия приводила упитанных на Парапет. Чертеж сознания группы был прост: действие жизни поставлено для наслаждения теплым, мягким, жирным и сладким, когда и позднею весной, которая сама парник, кальсоны почитают, как на февральских, потрясаемых нордами поездах, под сорочкой — фуфайка, в тарелке мясо с гранатовым соусом или хаш из бараньих костей на рассвете, и по мужнему требованию разлепляются бедра жены. Впечатления не тревожили эту сдобу. Любовная горечь, ненависть, страсть не задевали расслабленной полноты. Из всего клада эмоций только умеренность была им знакома от корня до корня. Эстетические вкусы упитанных, не сопрягаемые с их собственной волей, впрочем отсутствующей и непричастной к самотечной биографии слоя, в котировках которого волевое усилие, тем паче с некой жертвенной убылью, не значилось вовсе, а возглавляла список добродетелей передаваемая по наследству солидность, эти вкусы тоже были заповеданы предками, семейственной чередой поколений, и предписывали употребление самых мирных увеселяющих средств. Упитанные слушали хиндустанские шлягеры, голубиный шансон. Синий, с фосфорическими искрами мугам, ветер степей и пустынь, от которого, если слушать неподготовленной кожей, бывал ожог, потом гнойная рана и, чуть сойдут осыпанные стеклянным песком лоскуты, такая угрюмая меланхолия, что для сожительства с ней надо питаться тем же мугамом, — был им враждебен, хоть из ложной расовой солидарности они восхваляли его. Упитанные шаркая подходили к чинаре. Сбивались в кучу, обсуждая вполтона городские новинки, женитьбы, похороны, вступления в партию, марафоны карьер. Разговор умолкал, задвигаемый в темноту, увозимый в кулису полукружием сцены. Готовились, на затылок сдвинув уборы, разомкнув пальто, полушубки, распорядитель заправлял в магнитофон кассету, и слезы, светлые, серые слезы сбегали по однодневной щетине. Вы скажете, слезы, они плакали, я их оболгал. Но это были специальные, сиюминутные слезы, о которых, утеревшись платком, забывали, как забывают о машинально исполненном, само собой разумеющемся побочном элементе обряда. Слезы упитанных — часть ритуала, обставлявшего получение удовольствия, но в неподдельное сухое дупло наслаждения эта влага не капала: так зарытая в навоз древесная лягушка, предшествуя сомалийской кровопускательной оргии, лишь извещает о приближении крови и с ее праздником, конечно, не смешивается, и кто вспомнит за трапезой об омовении рук. Слезы упитанных были таким омовением, ручейки начинали бороздить щетину еще до того, как над ареной поднималась музыка Индии. Большие дети удовлетворялись быстро, в две-три мелодии, в две-три сигареты, плотной компанией покидали они Парапет.
Худые пили кобальт утешения. Зимой в кургузых пиджачках, колючий ядовитый шарф псевдомохера, разночинские мокроступы, беднота, голытьба. Вечные студенты в общажках, облезлый чайник с утра на плите, а то валили завтракать в продмаг, за каменный стол на треноге, в шесть копеек кислая булка, какао — пойло из ведра, я, попробовав, долго жалел, вот и все, вот и все. Ананасы и киви, круассан и корнфлекс? Не обессудьте, будут позже, на десерт. В инженерных коммунах ели, добирая водчонкой, с газеты, и, дабы прочнее, как мстилось, закрепиться в столице, за четвертак подселялись к бабуле, в глухом полушалке полуродственной старице, но бабуля не промах квартиркою зря рисковать. Шли в молчании, строились, озирали упитанных, те, не дослушав, прятали в тряпочку свой ребяческий «пах-пах-пах», и распорядитель заглушал радж капуров. Худых побаивались, они были отчетливы в бедности и беде. Алкали отчаяния, через него соболезнования, вот для чего был мугам. Подобно упитанным, слушали вместе, но и порознь тоже, это умели, отличаясь индивидуальным развитием. Удовольствие худых было оставаться несчастными, они целиком отдавались раздирающей музыке, и до них, как до гепарда перед броском, можно было дотронуться. Я бы тоже замкнулся бедой, во мне есть привязчивость к упоению затхлостью, чадным углом. А закавказец, дефинитивный спесивец… Он и здесь гордился собой, экий прыжок с высоты — наполнять облупившийся чайник, бруском хозяйственного мыла драить в раковине носки, на посыпанной луком селедке, кубистам не снилось, буквы партийного пленума, и без женщин, месяцами без женщин, только изредка на скамеечке, в укромной, с туей и кипарисом аллейке общупать такую же, как сам он, бездомную, недокормленно сельскую, институтку-общажницу в городе, где их, под копирку размноженных, преизбыток, один облик на всех, в том плане, что если не дочь богатея деревенских Советов (эти-то прибраны-сыты, гуляют с дуэньями), то ни шелковых трусов, ни обольстительной комбинации, ни заграничных тампонов, ибо отечественные не для тела… Я это к чему? К тому, что в укромных аллеях из засады видел их парочками. Худой, приструняя позыв, не оконфузиться бы из-за перерыва, ей гладил ноги в районе отогнутой юбки, она сучила ими, целомудренная, а когда запрокинулась, он воровато потеребил себе под штанами. Та же история, пишут из Персии, в Тегеране, в шахских садах зелени и лазури, арийских соловьев. В садах, зажженных спицей солнца, в садах, где изразцовые дворцы увиты строчками о женщине-ребенке, пленнице обрушившейся на нее любви, о пустыннике и поэте, друге львов и газелей, в этих садах то же самое, обжимаются по двое. Законы Ирана гласят, что близость до брака запретна, тем более нельзя прислоняться друг к другу публично. Все равно обжимаются, жаркие тени под каждым кустом в овальных садах, по весне завьюживаемых лепестками, она, ракета в чадре, блестя спрятанным личиком, сейчас взлетит в поднебесье, он, черно-белый жук с надкрыльями и в бороде, обрамляющей честолюбивые скулы начетчика, уцепится ей за подол и, кружа над мечетями, будет смотреть на нее снизу вверх. Может, аятоллы сняли запрет, может, я заблуждаюсь, спросил ведь русский философ, дозволено ли девушке в Израиле жить до замужества жизнью пола. Вряд ли, обжимаются наверняка по садам.
Худые не улыбались. Улыбка, пусть мимолетная, означала бы брешь легкомыслия в той саморастрате, которая была их стезей, — зарекомендовав себя в убытке, в ущербе, став, как им казалось, его господами, они все иное посчитали бы дезертирством: представьте, что пассажир поезда Баку — Ростов-Дон, стремившийся в пункт назначения, где у него в родильном отделении больницы разрешалась младенцем жена или в другом отделении окаменела параличная мать, ни с того ни с сего слез бы на полустанке и растворился в полях, под стрекот кузнечика, гудение шмеля. Поезд Баку — Ростов-Дон, июнь семьдесят девятого в двадцатом веке от рождества. Зной, подтухла еда, машут газетами, дух из уборной с заедающим спуском для слива, и нет туалетной бумаги, под матрацем нагревается портупея, а офицер в коридоре, курит в окно, за которым какая-никакая толпа, тетки цветастые, завитые, есть помоложе, упругие, разговорные, бабки яйца, картофель, огурцы-помидоры на взводе кладут, в рубашках навыпуск бровастые отставники, приблатняется по-южнорусски парнишка в клешах, туды-сюды-ничего, как лагерник один одобрял, но тревожная нота мешает — это у тюрков свое, неодолженное. Их мугам.