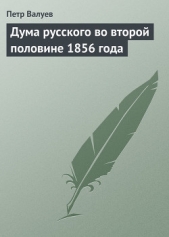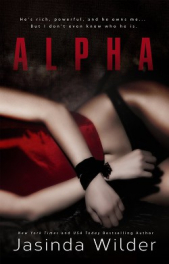Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт

Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт читать книгу онлайн
Захватывающий роман классика современной латиноамериканской литературы, посвященный таинственной смерти знаменитой герцогини Альба и попыткам разгадать эту тайну. В числе действующих лиц – живописец Гойя и всемогущий Мануэль Годой, премьер-министр и фаворит королевы…
В 1999 г. по этому роману был снят фильм с Пенелопой Крус в главной роли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(Гойя вкладывает столько страсти в свой рассказ, что в какой-то момент все, что случилось в июле 1802 года, становится все ближе и ближе к настоящему дню, и в силу волшебного эффекта воспоминаний сам Гойя кажется все более и более молодым, его голос набирает силу и становится звонким, глаза горят задором, движения делаются проворными, и мне уже чудится, что передо мной Гойя моих первых воспоминаний о нем, а вовсе не тот старик, который объявился вчера в кондитерской Пока.)
Я так и не сказал ей ничего. Я выложил на столик свои самые маленькие кисти, взял широкую палитру с красками и приступил к работе; я пустил в ход не только мое мастерство, но и все то, чему я научился, наблюдая, как мои подруги-актрисы, особенно Тирана и Рита Луна, изящно и изощренно подкрашивали лица, прежде чем начать позировать для моих портретов. [68]Для меня как для художника не составило труда воспроизвести эту технику: охра кладется как грунт, карминные разной интенсивности идут на скулы и виски, черными подводятся глаза, охряные, зеленые и фиолетовые тени наносятся под изгибы бровей и на веки. Можете вообразить, какие противоречивые чувства обуревали меня, когда я, намазав пальцы краской, как какая-нибудь донселья или цирюльник, размалевывал ими это лицо, теперь такое дряблое, но все же ее, лицо женщины, которую я когда-то так любил, да и в тот момент, возможно, еще… Но довольно. Это не относится к делу. В мои пятьдесят девять лет я по-прежнему неисправим. Ну так вот, мало-помалу я вернул ее лицу свежесть, девичий румянец, мягкие переходы тона, бархатистость, все это было совершенно искусственным, но выглядело безукоризненно. Я закончил свою работу; нетерпеливо и властно она потребовала зеркало – я бросился за ним бегом, но ей казалось, что я двигаюсь невероятно медленно. Это было уж слишком. Не знаю, кто из нас двоих был более жалок. Я стал собирать кисти.
Она сказала мне что-то относительно шеи. Я не смотрел на нее и едва слышал, что она говорит, я был слишком раздосадован и не обращал на нее внимания. Но когда я собрал кисти и повернулся в ее сторону, то увидел, что она запрокинула лицо, подняла вверх зеркало и красит себе белилами шею, мягко, но неровно водя пальцами под подбородком. Я медлил мгновение, пока до меня не дошло, что происходит, а потом с криком кинулся к ней, вырвал у нее из руки банку с белилами и, опрокинув ее на диван, принялся отчаянно тереть ей шею своей рубашкой. Она не сразу поняла, что случилось, – да и вы, дон Мануэль, судя по тому, какими глазами на меня смотрите, не вполне это понимаете, а? – но достаточно было одного слова, которое мне с трудом удалось вставить в поток возмущенных восклицаний, сопровождаемых протестующими жестами, как до ее сознания тут же дошло: яд! Да, яд. Серебряные белила – это яд, и очень опасный, поэтому я всегда заботился о том, чтобы держать их вместе с другими вредными красками отдельно от остальных, и уж конечно от тех, которыми собирался тонировать лицо женщины. [69]Наконец мы успокоились, я умерил свои упреки, она – свои сетования и насмешки, мне удалось снять разбавителем остатки белил, и, хотя теперь она жаловалась на жжение, опасность отравления миновала.
«Какая досада, – продолжала сокрушаться она, – придется мне сегодня весь вечер прикрывать шею газовым платком, а ведь это – уловка старух». И она все изумлялась тому, что краски, которыми пользуемся мы, художники, могут быть такими вредными, так что мне пришлось рассказать ей о кобальте фиолетовом, о желтой неаполитанской, о веронской зелени… [70]
«Но какая хитрость, – заметила она, – иметь такие нежные поэтические имена и быть такими ядовитыми, как цианистая соль или мышьяк…» Она рывком поднялась на ноги, на этот раз я действительно надеялся, что она уйдет, но она, вопреки моему ожиданию, снова принялась расхаживать по мастерской, останавливаясь перед «Обнаженной», отпуская для себя самой какие-то замечания, которые я не мог расслышать, и все высматривала что-то среди полотен, искала и тут, и там, по всей мастерской, так что я уже начал терять терпение, но она наконец нашла то, что ей было нужно: последний портрет, который я сделал ей еще в Санлукаре, она называла его «мой портрет в черном». Теперь ее уже ничто не могло остановить: она заставила меня поддерживать этот портрет высотой в добрые два метра, прислонив его к спинке креста, а сама стала перед ним, как перед зеркалом, вглядываясь в себя, другую, и обе они были написаны мной, но вся ирония заключалась в том, что та, на картине, обладала более естественной, подлинной красотой, она как бы говорила: «Такой ты была». И тут, словно эхо моих мыслей, я слышу, как она в самом деле произносит: «Такой я была». И, подбежав к «Обнаженной», обличающе указывает на нее пальцем и добавляет: «И такой тоже…» Она смотрит на меня с негодованием, потому что мои картины причиняют более жестокую боль, чем ее собственная память, и говорит с угрозой: «В один прекрасный день я приду к тебе, Фанчо, и ты распишешь мне тело, я заставлю тебя покрыть его этими серебряными белилами, чтобы изобразить саван, и тут же умру…»
И с унылым видом – она ведь была из тех пылких и неровных натур, которые мгновенно падают духом, и уже ничто на свете, ни сама жизнь, ни борьба не стоят их внимания – снова принялась рассматривать «Портрет в черном», спокойно, молча, как прилежная девочка перед аспидной доской, погруженная в свои занятия. И на этот раз она не сделала ни одного замечания ни о надписи «Гойя» на перстне, ни о другой, на песке – «Только Гойя», – на которую я заставил ее указывать пальцем. Она никогда не делала о них никаких замечаний. Я полагаю, что ее молчание говорило о неодобрении. Но в то же время она воздерживалась от возражений. И мне представляется, что таким образом эта необыкновенно чувствительная и деликатная женщина выражала свое уважение к любви, которую она вызывала, сама того не желая. Потом она подошла ко мне, взяла за руку и усадила рядом с собой на диван. Не отпуская мою руку, грустно сказала: «Спасибо, Фанчо, что ты сохранил меня навсегда молодой, и прекрасной, и такой жизнелюбивой в портретах, в рисунках и в „Обнаженной" – мне хотелось бы, чтобы у нее было мое лицо, чтобы все знали, какой я была. В эти дни я думала лишь о том, как бы умереть или исчезнуть, избавиться от всех и избавить всех от зрелища моего упадка. Ты помог мне жить, – она указала на свои портреты, – и именно ты смог бы помочь мне умереть, оставить как-нибудь пистолет среди картин или… Не перебивай меня! Не говори, что это выглядело бы некрасиво. От чего умерла эта несчастная? От желтой неаполитанской! Насколько это лучше, чем умереть от обычной желтой лихорадки, как умирают в наше время». Смеялась она или плакала, я не мог разобрать, так я был ошеломлен, но вдруг, смахнув слезу, зависшую на самом кончике ресниц, она сказала: «Я не должна плакать. Ведь слезы могут испортить всю твою дьявольскую работу». И, подхватив мантилью, она пошла к выходу, однако на этот раз с бесконечной осторожностью, как выходят из комнаты, где остается спящий ребенок. Нашим спящим ребенком, которого она оставляла, была мысль о ее смерти.
(Гойя наливает себе другой бокал бренди. На этот раз он забыл налить мне. Он сбросил куртку и развязал галстук. Волосы потемнели от пота. И хотя его история печальна, рассказывая ее, он помолодел, он похож теперь на Гойю 1802 года. Не требуется больших усилий, чтобы представить около него Каэтану, полную благодарности и противоречивых чувств к этому смуглому, невысокому, но крепкому человеку, такому упрямому в своей несокрушимой верности.)
II
Я приехал на бал, как всегда, слишком рано: она еще не выходила из своих комнат, и я коротал время в разговорах с людьми из ее ближайшего окружения – с капелланом доном Рамоном, ее секретарем Бергансой и казначеем Баргасом, [71]имевшими обыкновение появляться к началу званого вечера – сарао – и благополучно исчезать к моменту, когда гости мало-помалу начинали чувствовать себя хозяевами дома; меня связывала с ними давняя дружба; в тот вечер, насколько я могу вспомнить, мы беседовали о серьезной опасности, которой подвергся на днях дворец, – в нем чуть было не занялся пожар. Все говорило о поджоге. Негодование народа, возбужденное этой, как тогда считали, узурпацией земли под дворец, было настолько велико, что его не смог умерить даже королевский указ, подтверждавший право собственности герцогини на эту землю. [72]Немудрено, что верные ей люди, и особенно впечатлительный Берганса, опасались прямых нападок на свою госпожу, ибо такие нападки могли угнетающе подействовать на состояние ее духа, которое после возвращения из Андалузии и без того было крайне подавленным. В самый разгар беседы, словно для того, чтобы рассеять их беспокойство, она вошла в зал, отдавая направо и налево последние распоряжения, поправляя и переставляя по своему вкусу цветы, мимо которых проходила; в ней не было и тени той меланхолии, что так удручала секретаря и близких к ней людей и что так поразила меня в мастерской всего несколько часов назад. Она была прекрасна, как в лучшие свои годы, и я испытывал тайное чувство гордости оттого, что в этом имелась и моя заслуга. Ее красоту искусно оттеняло воздушное платье из муслина, в котором желтые и огненно-красные полосы ткани, накладываясь друг на друга, вспыхивали причудливыми переливами красок, усиливая сияние золота и рубинов на ее шее, в ушах и на пальцах. Она была ослепительна и, наверно, сама чувствовала это. Резко повернувшись, она взяла меня за руку, слегка откинулась назад и сказала: «Вот видишь, Фанчо, я обошлась без ядовитых красок и не надела ни серебряных украшений, ни моего любимого белого платья, хотя мне так хотелось быть в нем в этот вечер». И отошла поправить цветы в большой вазе китайского фарфора. Розы, украшавшие зал, повторяли цвета ее наряда, это было похоже на вариацию музыкальной темы. Пока она занималась цветами, я старался проникнуть в смысл ее слов: следовало ли мне понимать их в прямом значении или в них была заключена какая-то тайная мысль, связанная с нашим дневным разговором о серебряных белилах и с ее фантазиями о смерти. Но так или иначе, что бы она ни имела в виду, меня снова охватила тревога и полностью улетучилось радостное настроение, возникшее при ее появлении в зала. В этот момент начали прибывать гости.