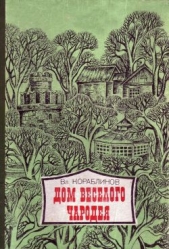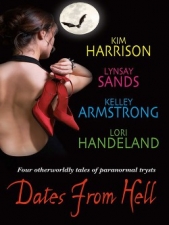Лотос
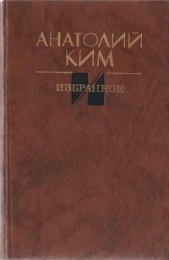
Лотос читать книгу онлайн
«Лотос» — грандиозный экзистенциалистский пассаж, где разыграна тема Большой Смерти, поглощаемой Великой Жизнью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он останавливается у высокой стены портового склада, на месте которого когда-то начинались домики прибрежной деревянной слободки и стоял маленький, как скворечник, дом престарелого учителя. Обшитое дощечками от тарных ящиков, крытое искусно расплющенными жестяными банками из-под селедки, жилье учителя стояло за оградой из палок, обтянутых серыми полуистлевшими кусками невода, на которых кое-где еще торчали стеклянные шары в веревочном сплетении — поплавки. Лохов толкнул легкую калитку, свободно висевшую на петлях из старых резиновых калош, и направился к домику. Сквозь радужные стекла единственного окна видно было равнодушное, замшелое лицо Архимеда Степановича. Оно теперь показалось бы старому Лохову обыкновенным, ничем не примечательным лицом пожилого человека, но тогда, молодым, Лохов содрогнулся, увидев, какую зловещую работу проделал невидимый беспощадный гример, подготавливая старика к известному уже Лохову последнему перевоплощению человека.
Много незаметных лет назад, до сей встречи, это был крепкий, с жилистой шеей, пожилой человек со снежной сединой в волосах, однако с темными воинственными бровями. Теперь же Лохов увидел перед собою некую странную личину с беззубым ртом и словно выдранными там и сям седыми клоками недельной щетины на подбородке. Шея, далеко торчавшая из ворота старой клетчатой рубахи, была исчеркана бороздками морщин, словно глубокими шрамами. Лохову, еще не отошедшему после смертной Голгофы матери, старость казалась отвратительной, как некое переходное состояние человека между жизнью и смертью; не замечал он, как смотрит на него с усмешкою, стоя совсем рядом, но из другого времени Лохов-старик, который забыл, о чем говорил ему Архимед Степанович вечность тому назад здесь же, на этом месте, лишь кирпичная стена портовой ограды, да песок, застрявший в щелях кладки и выдуваемый оттуда ветром, да шуршание льдов на волнах смирного моря словно зачарованно повторяют отзвучавшие слова старого учителя.
Лохов заходил тогда к нему без определенной цели, бездумно, по невнятному желанию, вспомнив, что в домике на краю слободы в тот год, когда он уезжал после школы на материк, поселился вышедший на пенсию учитель географии с пышным именем Архимед. Старик быстро говорил, взмахивая папиросой, насмешливо поглядывая сквозь туман табачного дыма на неожиданного гостя, говорил, мало обращая внимания на собеседника и совершенно не пытаясь ни понять, ни узнать его, произносил то, что Лохов слышал и потом забыл:
— Мария Ивановна, моя светлой памяти матушка, тоже умерла лет тридцать назад, однако горюю я по мамаше по сей день. Она была по убеждениям из тех народолюбцев прошлого, которые хотели унести к простым крестьянским массам всю культуру, какую смогли приобрести на свои наследственные капиталы или на медные гроши разночинцев. Мать была музыкантша, играла на виолончели и вот начала ходить по избам: играть пьяным мужикам и беременным бабам Шумана. А к чему этим крестьянам, скажем, нужен был Шуман? Культурка-то не прививалась, мужики эти и беременные крестьяночки только зевали до потолка да разглядывали, какие ботики на барышне да как она волосяным лучком пилит струны на бандуре, поставив ее на деревянный пол. Вот как забавлялась моя матушка, имея чистое сердце и глупый разум неопытной девицы. А что же из этого получилось? Из этого получился я, который последовал ее настойчивым заветам, получил от нее греческое имя и всю жизнь работал на ниве просвещения народа. А теперь что? Двое моих взрослых детей проживают на материке, на их учебу потрачены все мои сбережения, пришлось даже продать большой дом и купить эту хижину дяди Тома. Старуха моя так же померла, как и твоя престарелая мать, а роно ни угля не дает, ни дров. Архимед Степанович стал теперь никому не нужен, однако они там, в роно, забыли, как Архимед Степанович может кусаться, если его обижают… — Странный жалобный звук, нежный звон сопровождал голос учителя во все время его длинного монолога, и старый Лохов, проходя берегом моря мимо того места, где некогда стоял маленький дом под причудливой крышей из сплющенных банок, вновь услышал и узнал тот самый звук — нежную и звонкую жалобу провислых проводов; Лохов подумал; как быстро меняются на земле дома, люди, телеграфные столбы и провода… а вой ветра, летящий над крышами, и плач его, и звон проводов все те же. Значит, нечто постоянное держится на свете… — Неизвестно почему, но стали в наше время мало придавать значения искусству оратора, — говорил далее Архимед Степанович. — Нету хороших лекторов, а адвокатов послушать — как собаки брешут. Почему же такое небрежение словами, молодой человек? Вот вы битый час просидели у меня, а еще и двух слов связных не произнесли. Почему молчите? У вас горе, мама умерла? Я знаю, соседка она мне была несколько лет. Но почему не скажете про горе свое внятными словами трагедии? Знаете ли вы, что такое слова произносимые? Это как музыка, которая улетает от музыканта, из его сердца, от кончиков пальцев, и ему становится легче на душе. Неужто вы не замечали, как на душе становится легче, если, к примеру, вас обижают напрасно, а вы ИМ в лицо произносите бичующие слова о несправедливости? А ОНИ, значит, от ваших слов и бледнеют, и краснеют, и топчутся на месте, как остолопы. Слова, товарищ, как бы живут сами по себе, если вовремя и в достаточном количестве изрыгнуть их из себя. К примеру, говори и говори, что гусь самая красивая птица на свете — мол, и шея у нее длинная, и лапы красные, и перо белое, — так вскоре и для тебя, и для других так оно и будет, гусь станет самой красивой птицей на свете. А теперь возьми и начни пропагандировать все противоположное: хуже гуся ничего нету, у него и лапы-де красные, и шея как у змеи, и вши в перьях… Вмиг гусь станет самой поганейшей птицей. А все почему? Потому что слова живут сами по себе, когда их выпустишь наружу, а намолоть их так легко, ведь это самый что ни на есть легкий труд. Слово изреченное есть ложь, правильно сказано, и как же эту ложь просто сотворить, я всю жизнь этому удивляюсь, живя в городах и в деревнях и доживая остаток своих дней здесь, на пустынном морском побережье. Люди живут, нечаянно или по наущению произнося какие-нибудь слова, а затем сами же слепо следуют им, страдают из-за них или даже принимают мученический венец. Скажем, произнес бы Пилат римский одно короткое слово: «Отпустить», — и ничего бы не случилось с хорошим человеком, а Пилат вместо этого сказал какие-то другие, лукавые слова и умыл на глазах у всей публики руки. А стоило самому мученику произнести: «Раскаиваюсь!» или же «Отрекаюсь!» — как не постигла бы его крестная мука. Но ему во что бы то ни стало надобно было доказать свои слова: что он есть сын Бога и, стало быть, сам Бог. А ведь фокус-то был тут совсем другой, и страшное недоразумение оттого лишь, что не так были произнесены слова! Ведь что значило это: я сын Божий? Это значило, что он есть человек, но знает, что человек-то и может быть справедливым и разумным, как никто на свете, поэтому каждый может быть как Бог, если только добровольно этого захочет. Он сделал великое открытие, а его за это гвоздями на крест. Ну, может быть, сам он тоже был упрям или поверил своим же словам, как мы все, грешные, верим, и до последнего мига ждал, что вера его подтвердится чудом, да вот не выдержал и умер с криком протеста на устах. А что бы ему выдумать другие слова? Мол, друзья, господа, чего вы друг друга мучите с помощью слов, да они же ничего не стоят, это звуки простые, которые произвольно соединяются, паруются, как, например: Эльтон и Баскунчак, Майкоп и Грозный, Сухуми — Батуми, Манчестер — Ливерпуль, Эри — Онтарио, Ванька-встанька… Ну зачем из-за этой пустяковой игры звуков нам терзать друг друга? Иногда даже один сижу — в доме или на береговом камне — и часа три кряду шпарю сам не знамо что, и во мне злость лишь растет оттого, что пустячок, из-за которого люди друг другу готовы голову оторвать, так легко намалывается языком. Моя старуха и померла из-за этого: заговорил я ее, хуже смерти стала для нее пустая моя болтовня, враз заболела и, заткнув ватою уши, навечно убежала от меня на кладбище, там и легла под холм, но ваты из ушей не исторгла, потому что я еще несколько лет кряду ходил к ней на могилу и произносил свои незаурядные речи. И чем же, чем я, сказать к слову, морочил ей голову при жизни ее? Да сущими пустяками. Например, приду из города, из магазина, хлеб или крупичку в сумках через плечо принесу, сяду разуваться на скамейку и как бы нечаянно скажу, что видел козла соседского, который забрался на скалу и оттуда смотрел в море, а сам весь заливался слезами. Уже и борода вся мокрая, хоть выжми ее, и по каменной скале пошли сырые потеки. А жена, чувствуя странный подвох моих напрасных словопрений, не верит мне, но спрашивает, уже совершенно пораженная: чего, мол, козлу реветь, дурень ты старый? А я ей отвечаю: не знаешь, так молчи, неужели ты не помнишь, что двое сыновей у него утонуло в позапрошлом году, когда был чудовищный шторм в ноябре месяце? Старуха, допустим, начинает думать и вспоминать про этот упомянутый шторм, но затем спохватывается и кричит: какие такие сыновья у козла? Что ты, мол, несешь опять? А я совершенно хладнокровно, с укоризною глядя на нее, произношу: ты, дескать, не помнишь даже, что ребята мореходку кончали, штурманское отделение, один раньше другого на год. Тут моя супружница принимается взирать на меня, словно на фашиста поганого, и начинает орать и плакать, упрекая, что сыновья эти вовсе не козла, а его хозяина, и ребята, слава Богу, нисколько не утонули, а благополучно ходят в заграничное плавание на теплоходе «Свобода». А чего ей, спрашивается, волноваться и плакать, чего возмущаться столь яростно? Ведь я пустые слова сбрехал, соединил в воздухе с помощью помела своего то, что никак не соединимо. Чего же из-за этого слезы лить? Знать, не совсем пусты были те слова, если они могли зацепить за сердце, словно ветки ежевики, и, дернув, нанести даже слезную боль возмущения.