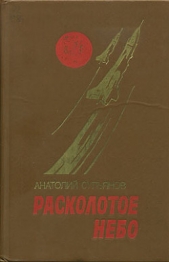Белоснежка

Белоснежка читать книгу онлайн
В знаменитом романе классика постмодернизма Доналда Бартелми (1931–1989) «Белоснежка» чудесно оживают сказки нашего детства. Белоснежка и семь гномов, прекрасные принцы и коварные ведьмы кружатся в хороводе абсурда, обретая сексуальную активность и разбираясь в сложных психологических парадигмах иррационального XX века.
Вошедший в канон мировой литературы экспериментальный роман «Белоснежка» – впервые на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Я в одиночку прикончил эту бутылку «шабли», – сказал Дэн. – И другую бутылку «шабли» тоже – ту, что под кроватью. И ту другую бутылку «шабли» тоже – ту, в горлышко которой воткнута коричневая свечка. И я не боюсь. Ни того, что может быть, ни того, что было. Теперь я закурю эту длинную сигару длиной от Мон Сен-Мишеля и Шартра до у подножия вулкана. Просто модное прейдет и просто новое прейдет, но не прейдет лишь то, как я себя ощущаю: все аналогии могут рухнуть, все режимы могут рухнуть, но то, как я себя ощущаю, пребудет. А ощущаю я себя покинутым. Когда весь день горбатился над чанами и мыл строения, хочется прийти домой и увидеть на столе баранью ногу в остром соусе, нашпигованную крошечными луковками, ну и, может, маленький горшочек вареной картошки где-нибудь неподалеку. А вместо этого я прихожу домой к этому ничему. Она сидит у себя в комнате, читает «Несогласие» и любуется в зеркало на свою фигуру. Она все еще любит нас в некотором роде, но этого недостаточно. Я чувствую, что это полный провал водительства. Мы снова остались на бобах. Истинное водительство заставило бы ее любить нас неистово и яростно, как в дни былые. Истинное водительство нашло бы выход из этого просака. Я устал от Билловых запинающихся оправданий, от его вечных посулов. Если ему не хочется быть вожаком, давайте голосовать. Вот это я и хочу сказать, но есть и кое-что еще: когда весь день горбатился над горячим чаном и приходишь домой, тебе не хочется слушать всякую горбатину от ссыкливого вожака, все водительство которого растерялось, как пуговки, от парня, который днями напролет витает в облаках, трескает капусту да рассматривает кораблики, пока ты горбатишься на работе. На работе с ее таблицами и графиками, с иерархическими отношениями, с ощущением важности того, что делаешь.
– Сдерживание эмоций порождает нервозность, – сказал Билл, окуная ковш в бочонок декадентского абсента. – Не забывай об этом. Ты, Хьюберт, всегда напряжен, как канатоходец. Если у тебя еще имеется возможность испустить тяжкий вздох, ты должен его испустить. Если из тебя еще может вырваться глухой стон, пускай он вырвется. Если ты еще можешь яростно стукнуть себя по лбу кулаком, дай кулаку волю. Кроме того, в старых книгах можно отыскать упреки и увещевания, прекрасно подходящие к данному случаю, – ознакомься с ними на досуге. Такое сцепление внешних и видимых знаков может, я подчеркиваю, может, сдетонировать внутренний незримый субъективный коррелят, что бабахнет в глуби нутра, как «Алка-Зельцер», после чего наступит спокойствие. Я подчеркиваю, может. И вы, все остальные, вы напрасно делаете вид, что это вас никак не касается, вы же как Хьюберт. Тот же самый недуг, то же самое лекарство. А что до меня, я тут вне игры. Раскооптировался, если угодно. Наскучив жизнью, полной эмоциональных фиаско, я стал подыскивать иные разновидности убожества, иные способы уничтожения. Теперь я ограничил себя тем, что слушаю людские разговоры и думаю: какое же это жеманство. Я питаюсь тонкими материями разума, созерцанием его круглосуточного балагана. Какой-нибудь языковый выверт, хромая несуразица – вот я и сыт. Если разобраться, это мне бы следовало быть монахом, а Полу – вашим вожаком.
– Мы подумывали об этом, – сказал Хьюберт.
– Ну и пусть, – сказал намертво вцепившийся в две сотни бутылок «Одинокой Звезды» Клем в «Аламо Чили-Хаусе», – ну и пусть я пентюх неотесанный в некотором смысле, и мои провинциальные взгляды противоречат более просвещенным взглядам моих коллег. Однако я заметил, что в вопросах кукурузной каши, свиного рубца или жареного сома они обращаются лишь ко мне. Только эти вопросы встают не так уж и часто. За все эти двенадцать лет я даже не понюхал жареного сома! Сколько вечеров я устало брел домой, почти ощущая во рту вкус жареного сома, и обнаруживал, что на ужин у нас жареные калимаретти или еще какая-нибудь восточная еда. Нет, я никак не хочу принизить эти нежные колечки кальмара, подрумяненные в оливковом масле. Мне даже нравятся квадратные консервные банки, в которых продают оливковое масло, их зеленая с золотом роспись, их затейливая эмблематика девятнадцатого века. От одного лишь взгляда ни эти банки у меня слюни во рту наворачиваются. Но почему я разговариваю с собой о банках? Меня удручают отнюдь не банки. Меня удручает жизнь в нашей великой стране, в Америке. Она мне представляется нищенской. Я не хочу сказать, что нищие ведут нищенскую жизнь, хотя они, конечно же, ведут нищенскую жизнь, но ведь и жирные ведут нищенскую жизнь. Ну да, кто-нибудь может сказать, что все они – горбомозглые, на чем вопрос и закроется. Но меня тревожит тот факт, что никто так и не откликнулся на волосяную инициативу Белоснежки. Хотя в то же время этот факт меня радует. Но из него почти однозначно следует, что американцы не могут либо же не хотят видеть себя принцами. Даже Пол, самый принцеобразный из наших современников, не среагировал подобающим образом. Конечно, нельзя исключать, что быть принцем не очень хорошо. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов нашу долгую демократическую традицию, коя антиаристократична. Эгалитаризм исключает принцеобразность. И в то же время наши люди отнюдь не равны ни в каком смысле. Они либо… Беднейшие являются рабами столь же безусловно, как галерники, прикованные к огромным деревянным веслам. У богатейших как на подбор физиономии холодных изнеженных гомосексуалистов. Те же, что посередке, пребывают в изумительном замешательстве. Перераспределить деньги. Я не говорю, что от этого сразу все улучшится, но улучшится хотя бы что-то. Перераспределить деньги. И способ тут может быть только один. Сделать богатых счастливее. Новая любовь. Новая любовь вдохнет в них новую жизнь, куда «богаче», нежели… Нужно провести закон, по которому браки всех людей, имеющих более чем достаточно денег, объявляются расторгнутыми с завтрашнего дня. Дадим свободу всем этим бедным денежным людям, позволим им включиться в игру наново. A quid pro quo [20] – их деньги. Мы забираем эти деньги и…
Эдвард взрывал свое сознание под дощатым настилом. «Ну вот мое сознание и взорвано. Девять мантр и три пузырька репеллента от насекомых под этим настилом. Завтра я определенно буду болеть. Но взорванное сознание того стоит. Чтоб на какое-то время перестать быть грязным буржуа – пусть и на самое краткое. Увидеть все в новом ракурсе. Под настилом. Эти кремовые штиблеты на микропоре, топочущие над головой. Теперь я их понимаю, впервые в жизни. Нет, не их молекулярную структуру, которая не возбуждает во мне особого интереса, но их святость. Их срединность. Они – средоточие всего, эти штиблеты. Они суть это. И я это теперь знаю. Жаль, что это знание не нужно знать. Жаль, что оно неистинно. Даже временно неистинно. Скорее всего это значит, что мое сознание пока не совсем взорвано. Такая суровая критика. Добавим репеллента!
Прикрыв дверь своего покоя, Белоснежка сняла жакетку, затем рубашку, затем комбинашку, затем лифчик. Голые груди остались. Стоя у окна, Белоснежка смотрела на свои голые груди, для чего потребовалось сильно наклонить голову. «Ну и что тут о них думать? Обычно я совсем о них не думаю, а скорее думаю о самых обычных событиях, ну там как я ходила в кегельбан или видела в небесах распростертые крыла исполинского реактивного лайнера. А теперь последние события – вернее, их отсутствие – пошатнули во мне веру в себя. Но давайте проведем переучет. Эти груди, мои собственные, изящно отстоят от туловища, как им и полагается. Да и самое туловище отнюдь не лишено привлекательности. Говоря по правде, «туловище» – довольно тусклый термин для главной части этого собрания радостей. Лилейный живот! Ошеломляющая задница в ампирном трюмо! И весьма, весьма недурные ноги, включая немаловажные коленки. Ослепительный ассортимент, достойный никак не хулы, но хвалы! Но у моего кучерявого разума проблемы, отличные от, хоть и связанные с оными моего восхитительного тела. Занимательная материальность моего существования здесь, на Земле, связана с обеими частями проблемы «тело – разум», с частью телесной и частью разумной. Хоть я тайно осознаю, что мое тело и есть мой разум. Иногда оно действует по собственному разумению, бесстыдно бросаясь в объятья сомнительных ситуаций, не страшась ни чьих-либо взглядов, ни истинных ценностей. Стоит ли удивляться, что мы, двадцатидвухлетние, не доверяем никому старше двенадцати. Только там, до двенадцати, и можно найти людей, понимающих, что к чему. Пойду-ка я сейчас на улицу и поговорю с каким-нибудь один-надцатилеткой, чтобы набраться сил и бодрости. Сейчас или чуть позже». Белоснежка смотрела на свои симпатичные груди. «Не лучшие из тех, что мне доводилось видеть. Но и далеко не худшие».