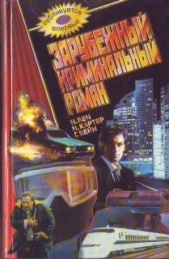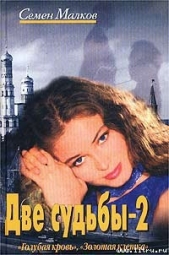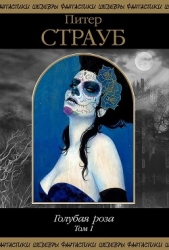Голубая акула

Голубая акула читать книгу онлайн
Литературный критик и переводчик, Ирина Васюченко получила известность и как яркий, самобытный прозаик, автор повестей «Лягушка в молоке», «Автопортрет со зверем», «Искусство однобокого палача» и романов «Отсутственное место» и «Деточка» (последний вышел в «Тексте» в 2008 г.).Действие романа «Голубая акула» происходит в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Его герой, в прошлом следователь, а после революции — скромный служащий, перебирающий никому не нужные бумаги, коротает одинокие вечера за писанием мемуаров, восстанавливая в памяти события своей молодости — таинственную историю одного расследования, на которое его подвигнула страстная любовь. Был ли Миллер, его тогдашний противник, знаток и страстный любитель рыб, только преступником, изувером, охотившимся на маленьких детей, или судьба столкнула молодого следователя с существом сверхъестественной, дьявольской природы? Как бы то ни было, та давнишняя драма представляется постаревшему, тяжело больному Алтуфьеву почти нереальной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слегка ошеломленный таким видением, я не сразу откликнулся, и Любочка требовательно потрясла меня за руку:
— Поклянись сейчас же!
— Клянусь! — сказал я.
И тут она совершила поступок, достойный коварной обольстительницы миледи из «Трех мушкетеров»: она поцеловала меня в щеку!
— Ксюша, проводи Колю! Да скорее же, он очень спешит!
На улицу я вышел гордый, словно император. Уши пылали, словно два победных стяга. В этот миг, чтобы угодить Любочке, я готов был перестрелять из лука всех гимназисток Москвы.
Конечно, с того достославного дня прошли, казалось, не месяцы, а целые века. Но мог ли я забыть поцелуй? И эти слова «я всегда знала» — разве не означали они, что Любочка…
— Любы нет дома, — сказала Ксюша.
Она стояла в дверях, кутаясь в теплую шаль, и ее обыкновенно добродушный взгляд казался то ли смущенным, то ли неприветливым.
— Спасибо, я зайду завтра.
Но назавтра меня вновь постигла неудача. Отчаянно гоня прочь унизительную догадку, что двери этого дома отныне закрыты для «единственного друга», я притащился в третий раз.
— Сядь, Коленька, давай побеседуем немного. — Анна Сергеевна глядела на меня такими же прозрачными и непроницаемыми, как у дочери, глазами. — Любочки нет, но мы и без нее прекрасно можем выпить чаю, не так ли? Ксюша, милая, принесите чай и пирожные.
Анна Сергеевна была дамой в высшей степени любезной. Но таким медовым голосом она никогда еще со мной не говорила. При первых же ее словах сомнения рассеялись. Я понимал, что все кончено, но почему-то покорно сел за стол и даже взял пирожное. Оно тут же раскрошилось в моих неловких, разом вспотевших пальцах, но Анна Сергеевна сделала вид, будто ничего не заметила.
— Дорогой мой мальчик… Ты позволишь так тебя называть? Мы ведь почти родня, я тебя маленького качала на руках, так что, кажется, могу взять на себя смелость… Словом, ты помнишь, я всегда прекрасно к тебе относилась… и Семен Валерианович… и Люба, конечно, тоже. Но теперь… Пойми, ты уже большой, и тебе должно быть ясно, что после этой несчастной истории…
— Анна Сергеевна, мне все ясно. Я пойду. Извините.
— Постой, куда ты? — она преградила мне дорогу. Тонкое воспитанье не позволяло Любиной маме дать мне уйти, не заставив испить горькую чашу ее вежливости до дна. Мягким, но властным движеньем она усадила меня обратно. — Какой же у тебя вспыльчивый характер. Посуди сам, разве можно вот так, рассердясь, не дослушав, уйти из дома старых друзей, прервать меня на полуслове… а ведь я несколько старше тебя, вспомни!
— Извините, — обреченно повторил я.
— Видишь, ты сам уже понял, что не прав. Ты переживаешь сейчас самый неблагодарный возраст. Многие порядочные, уважаемые люди признавались, что в эти годы их поведение оставляло желать много лучшего. Как видишь, я все понимаю и от души тебе сочувствую. Но Любочка… она воспитана в таких высоких моральных понятиях, так строга во всем, что касается правил приличия! Ей трудно представить, сколь далеко может завести мальчика твоих лет его резвый нрав. Я уверена, что со временем, когда вы оба изменитесь и все поймут, что ты тот же, наш прежний Коля, которого мы привыкли любить и уважать за благоразумие и прилежание…
Речь Анны Сергеевны журчала монотонным серебряным ручейком. Я вдруг вспомнил, что читал про старинную китайскую пытку. Человека связывают и льют на темя тонкой струйкой воду. Сначала кажется, что в этом нет ничего особенного. Но наступает миг, когда несчастный начинает корчиться в невыразимой муке. А вода все журчит, все льется.
Я вскочил с места. Стул, неловко задетый моим каблуком, упал с таким грохотом, словно чинную тишину гостиной потряс взрыв бомбы. Анна Сергеевна ахнула. Не подняв стула, я ринулся вон, давая про себя страшные зароки, что ноги моей больше не будет у Красиных.
Случилось так, что эту последнюю клятву я выполнил, хотя воспоминания о Любочке тревожили мое воображение еще года три. И вопрос, померещилось мне или вправду штора в ее окне шевельнулась, когда, уходя, я в последний раз оглянулся на дом, — этот совершенно праздный вопрос долго был мне не безразличен.
Вернувшись в двадцать третьем из Тифлиса, я среди прочих московских новостей узнал, что Любочка, к тому времени супруга горного инженера и мать двоих детей, в конце восемнадцатого скончалась от сыпняка. Рассказывали, что она была очень красивой и необыкновенно сдержанной — из тех, кого трудно узнать по-настоящему. Впрочем, разве я знал хотя бы того золотистого котенка, что когда-то нежился на берегу Истры, заставляя меня так ужасно выхваляться? Она была очаровательна, вот и все. Мир ее душе.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
«Жизнь, назначенная к бою»
Я уже начал посещать занятия в реальном училище, но далеко еще не опомнился от пережитых бед, когда в один из февральских вечеров к нам зашел Алеша Сидоров. Мама приняла его с распростертыми объятиями. Отец тоже был, по-видимому, доволен. Мы вчетвером пили кофий в гостиной и все время старательно улыбались, притворяясь, будто все благополучно, совсем как раньше.
Мне это давалось с трудом, да и Сидоров, похоже, сидел как на иголках. Покончив с кофием, он тотчас начал прощаться, но просил меня обязательно быть у них послезавтра в семь, так как «все соскучились». С излишней торопливостью я заверил, что приду, и проводил его до передней. Когда дверь закрылась, я почувствовал, что лицевые мускулы натруженно ноют от притворных улыбок.
К Сидоровым я тем не менее пошел. Даже просидел весь вечер с назойливым, бесконечно тоскливым ощущением, что все напрасно. Я ждал чуда, а оно не произошло. Эти люди, которых я любил, но главное — верил, что они могут все, тщетно пытались воскресить былую радость нашей дружбы. Алеша старался больше всех. Он много и мило шутил, рассказывал разные смешные случаи и был очень — слишком — внимателен ко мне. О скандале в гимназии никто не упомянул ни единым словом.
Короче, со мной обращались, как с тяжело больным. Даже Фурфыга, вместо того чтобы наскочить, как бывало, с неистовыми прыжками, подошла неслышно, деликатно поставила мне на колено две легкие пушистые лапки и вопросительно заглянула в лицо: «Что, бедняга? Худо тебе?»
Я понимал, как они все великодушны. Говорил себе, что должен быть благодарен. А хотелось одного — поскорее уйти. Напоследок Варя села за фортепьяно и, ласково поглядывая на меня, спела романс, которого мне больше не привелось слышать — ни прежде, ни потом.
Играй, покуда над тобою
Еще безоблачна лазурь;
Играй с людьми, играй с судьбою,
Ты — жизнь, назначенная к бою,
Ты — сердце, жаждущее бурь.
Когда прощались, Алеша стиснул мне руку и печально молвил:
— Приходи.
— Спасибо. Приду непременно, — кивнул я.
Никто при этом не сказал когда. И оба понимали, что это значит. Вечер был теплый, безветренный. Пахло свежевыпавшим снегом и почему-то мандаринами. В голове вертелись строки Вариного романса. Кажется, она хотела меня подбодрить. Смешно! Мне было тринадцать лет, и никакой безоблачной лазури, если понимать оную в подобающем аллегорическом смысле, я над своей дурацкой головой не мог ни вообразить, ни хотя бы вспомнить. А уж с играми было покончено, разумеется, навсегда.
Сказал бы мне кто-нибудь тогда, что однажды, оставив позади все бури и битвы, я еще затею игру! Пусть грустную, пусть с самим собою, но — игру, ибо как еще прикажете называть это писание, на которое я так расточительно трачу остатки отпущенного мне времени? А если прибавить сюда июньское небо над Покатиловкой, хоть не аллегорическое, зато пронзительно синее, чего еще можно желать?
Кстати, для полноты, так сказать, пейзажа здесь обитает и «жизнь, назначенная к бою». Только что она собственной персоной возникла перед моим окном с кроличьей тушкой в руке. Багровые капли, отмечающие ее путь, свидетельствовали о том, что кролик умерщвлен сию минуту.
— Неужели ты сама его зарезала?