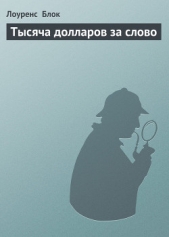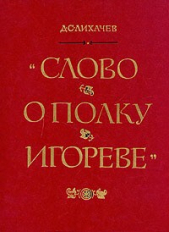Слово за слово
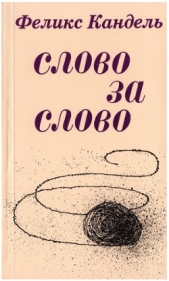
Слово за слово читать книгу онлайн
Повесть Феликса Канделя - это своеобразный социальный срез общества, вызывающий интерес и соучастие к каждой как бы мимоходом рассказанной судьбе в этой книге.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он писал:
"Монополии на человека нет ни у кого, хоть многим очень бы хотелось ее заиметь. Всякая монополия, если она состоится, будет устанавливать свой коридор, по своему масштабу и разумению, где вольно станут резвиться обделенные, где приспособятся более терпеливые к постоянным стуканиям о стены и где невмоготу будет натурам неограниченно богатым. Всякая монополия должна быть готова к тому, что ее вечно будут нарушать, подтачивать и подкапывать изнутри, чтобы вырваться на просторы человеческого разума. Монополия на спиртные напитки возможна. Всё равно будут курить самогон. Монополия на человека чудовищна. Она отрицает самого человека..."
– Поговори у меня, – грозилась Маня с лежанки. – Скажу правнуку – он те ужо отвалтузит...
Правнука у Мани тоже не было.
Правнук сгинул еще в Порт-Артуре, его косоглазый на штык насадил.
Этих косоглазых, как мурашей на кочке, – их разве передавишь?
Но Маня этого не помнила.
По вечерам, когда дальнобойный Потряскин гужевался с Груней и дом подрагивал от танковых усилий, вдова Маня выходила в коридор, скреблась в ихнюю дверь.
– Груня, – говорила льстивым голоском. – За мной должок, Груня. Я те хлебца принесла навозврат да яиц пяток.
Но Груни за дверью не было.
Груня летала в этот момент в безвоздушных пространствах, где не нужны уже ни хлеб, ни яйца, ни прочие земные услады.
– Бабка! – ревел из-за двери великолепный Потряскин. – Броня крепка и танки наши быстры, бабка! И наши люди мужеством полны!..
И Маня уходила довольная.
– Зловредненькая ты старушонка, – отчитывал ее Лазуня. – Всё-то тебе неможется.
И снова садился за клеенчатый стол: листать свой старинный альбом, читать прежние записи, вспоминать, думать.
Все альбомы и стихи
Суть ничто как пустяки.
И советую тебе
Не держать ихъ въ голове...
В каждом учреждении свой беспорядок.
У одних строгая тишина в комнатах, чистота, рабочая обстановка, а в курилку не войдешь – полно.
У других огромный коридор, и по нему с деловым видом ходят сотрудники. Весь день. Сомкнутыми рядами.
У третьих беспорядок веселый, суматошный. Нужен документ – все бегут за документом. Нужен отчет – все за отчетом. Кучей. Наперегонки. Шумно и радостно.
Ты начальник – я дурак. Я начальник – ты дурак. Но если ты начальник, а я не дурак, – что тогда?
Лазуня Розенгласс поменял много работ, нигде надолго не задерживаясь.
Говорили, что он ленив, вял и неинициативен.
Но он не был ленивым.
Всякий раз перед новым делом он продумывал смысл будущей работы, и не было желания начинать ее, не было сил закончить.
Он писал: "Так где же нам взять свежие мысли, великие идеи, грандиозные, взахлеб, свершения? Всё, что мы обдумываем, давно уже думано-передумано, пока мы давились под плитой. Всё, что мы решаем, давно уже решено и отброшено за ненадобностью. Всё, что мы предвосхищаем, давно уже позабыто в пыльных архивах. Что же остается взамен? Дутость имен. Несуразица жизни. Мерзость ленивого запустения..."
Соня и Броня, синие от недоедания, заглядывали, бывало, на огонек и криком спрашивали с порога:
– Товарищ Розенгласс, разъясните нам, пожалуйста, текущий момент.
Соня и Броня с радостью интересовались всем на свете, но ими не интересовался никто.
– Это мы счас, – ерничала с лежанки вечная вдова Маня. – Это мы в момент!
И тогда они спускались в подвал, в домоуправление, садились по глухоте своей в первый ряд и проходили заново курс политграмоты для дворников, лифтерш и водопроводчиков.
Соня и Броня слыли у них отличницами.
– Были люди, – говорила Маня на это, – а теперь вылюдились.
И Лазуня прятал улыбку.
– Разбессовестная ты моя старушка, – журил ласково. – Всё-то она понимает.
– Нешто, нешто, – бурчала без злобы. – Вот ужо позову праправнука – он те на раз кончит...
Праправнука у Мани давно не было.
Праправнук задохся еще в империалистическую от вредных немецких газов.
И прапраправнука тоже уже не было.
Его в гражданскую расстреляли за побег.
То ли от белых к зеленым, то ли от красных к белым.
Маня не разобрала.
Возле родильного дома его остановила женщина.
В черной шапочке. В строгом, прямого покроя, пальто. Отрешенная, как монашка.
– Не откажите, – сказала. – Там у меня сестра. Ее надо встретить.
И они вошли внутрь.
– А почему я? – спросил Лазуня.
– Вы мне понравились, – ответила без улыбки.
В зале было полно. В зале было шумно и суетливо. Совали в окошко свертки, банки с компотом, яблоки, писали по углам записочки, дежурная у телефона скороговоркой называла цифры: три триста, три пятьсот, сорок семь, сорок девять, пятьдесят два... Лазуня с любопытством вертел головой. Первый раз в таком месте. Раньше не приходилось.
– А где у нее муж? – всполошился. – Где муж? Это его дело.
– Нет мужа, – ответила женщина.
Приоткрылась боковая дверь, тетка в балахоне стыдливо сунулась наружу и закричала громким шепотом дядечке с кошелкой.
– Ты что, офонарел?.. Всё принес, а где платье? Платье где? Как я домой пойду?..
– Там оно... – растерялся дядечка. – Я клал.
– Клал, клал... Кабы клал, так было.
И голова исчезла.
Дядечка затоптался, заелозил подошвами, искательно ловил сочувственные взгляды.
– Разве упомнишь? Тут тебе штаны да рубаха, а у них и того, и этого... Одной сбруи – мешок.
– Ничего, – беспечно сказали из толпы. – Сегодня тепло. Доедет без платья.
Но уже выходила нянечка, выносила аккуратный сверток в голубых лентах, а следом торжественно шла тетка, старательно придерживала полы пальто. Дядечка чинно поцеловал супругу, принял ребенка, все расступились, и медленно, плечом к плечу, они пошли к двери.
Лазуня глядел во все глаза.
Даже в глазу защипало.
– Милая, – сказал. – Я уже старый для этого.
– Вы не старый, – ответила. – Вы солидный.
Но опять выходила нянечка со свертком, он напряженно и неуклюже принял ребенка, поразился его легкости, и тут из-за двери шагнула девушка, встревоженно взглянула на него. Глаза – светлые, чистые, прозрачные, зрачки – донные камушки, омытые быстрой водой. Взглянула – руки потянула к ребенку, но женщина замахала ей торопливо, и они пошли к выходу через расступившуюся толпу. Впереди Лазуня, за ним женщины.
– Строгие... – отметили в спину. – Даже не поцеловались.
Вышли на улицу, сели в такси, приняли у него ребенка.
– Спасибо, – холодно, как чужому, сказала женщина, а сестра ее промолчала, только взглянула на миг светло и прозрачно.
И они уехали.
– Чего тебя-то не взяли? –спросили от дверей. – Или не нужен больше?
И тогда он проделал такой эксперимент.
Целую неделю не являлся на работу, не звонил, не отпрашивался, не объяснял причин, и никто его не хватился. Не спросили. Не поинтересовались. Даже зарплату выдали сполна.
– Так где же тогда я? – сказал сам себе. – И что я? И зачем?
Лазуня Розенгласс – человек, который просвечивал.
Это как промытое стекло.
Вот оно есть, и вот его нет: на просвет видно.
В тот вечер он записал:
"Стоял в зале бильярд. Новенький, неразбитый еще бильярд – мечта игрока. И костяные шары, и намеленные кии, и лузы, покойные, удобные гамаки-лузы, в которых так приятно расслабиться и отдохнуть после беготни по зеленому, необтертому еще сукну. И одного загнали сразу, с первого удара, и другого сразу, а третий свалился сам, с перепугу, и четвертый почти сам: так, подтолкнули для видимости, а один – герой, выскочка, позер, портупея крест-накрест, а один – шустряк, вертун, неуемный дурак – ошалело метался от борта к борту под хлесткие удары кия, сталкивался, отлетал, набивал себе шишки, не лез в лузы, не лез, и всё тут! – взбесившийся парадокс, обалделая игра случая, а зрители уже обступили стол, зрители аплодировали его упрямству, зрители подтрунивали над остервеневшим игроком-профессионалом, будто и они герои, будто и мы герои, позабывшие на миг собственные гамаки-лузы, в которых так приятно качаться. Но вот уже тщательно намелили кий, прицелились для последнего удара, и вот он с треском, будто взрываясь, залетел в лузу, обалдело качаясь в гамаке, надеясь выпрыгнуть еще обратно, а игра-то уже закончена, игра закончена, граждане, игра – она и должна когда-то закончиться. На то она и игра. Назад не выпрыгивают. И зрители отвернулись разочарованные: слабак! И зрители ушли раздосадованные: слюнтяй! Зрители отправились к другому столу, к новому игроку, в вечной надежде на удальца-храбреца, выскочку, героя, позера – портупея крест-накрест, что продержится до конца, до эшафота, до венца мученика, которому погибнуть – одно наслаждение, для которого петля – галстук, пуля – муха, тюрьма – дом родной. Который удовлетворит нашу вечную тоску по силе и гордости. Которому мы не простим даже секундных колебаний. Ах, он не хочет идти на казнь?! Ах, она отказывается от каторги?! Ах, они тоже цепляются за жизнь?! Не о таких героях мы мечтали! Ведь мы слабые. Очень слабые. И мы никому не простим наши слабости..."