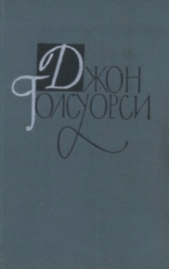Вилла Рено
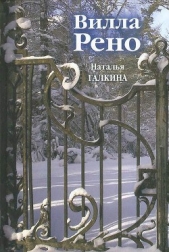
Вилла Рено читать книгу онлайн
История петербургских интеллигентов, выехавших накануне Октябрьского переворота на дачи в Келломяки - нынешнее Комарово - и отсеченных от России неожиданно возникшей границей. Все, что им остается,- это сохранять в своей маленькой колонии заповедник русской жизни, смытой в небытие большевистским потопом. Вилла Рено, где обитают "вечные дачники", - это русский Ноев ковчег, плывущий вне времени и пространства, из одной эпохи в другую. Опубликованный в 2003 году в журнале "Нева" роман "Вилла Рено" стал финалистом премии "Русский Букер".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мне нравится это множественное число! — вопил Савельев. — «Снимать будем»! Не «будем», а «буду»! Я буду снимать!
Тут из кустов выплыл пьяный Нечипоренко с парой пьяных писателей; обнявшись за плечи, они шли, качаясь втроем, непокоренные, с трудом вписываясь в аллею.
— А вот и деятели культуры в процессе приема недопинга на троих, — сказала с дерева Катриона.
— Та-ак, — прошипел Савельев, — у меня процесс прервался творческий, а исторический консультант, вместо того чтобы выдать нужные мне исторические сведения по части правды жизни, хлобыщет водяру с представителями массолита.
— Искусство выше истории, — молвил, икнув, правый пьяный писатель. — Художественный образ выше имитации действительности, истина выше правды жизни.
— Красивей звездите — и несудимы будете! — произнес левый писатель и попытался упасть.
— Три богатыря, — произнесла сверху Катриона.
— Кто шуганет эту сучку с дерева, — сказал Савельев, — получит ящик коньяку.
— Сидит сучка на сучке с телеграммою в руке, — сказал левый пьяный.
— Не слушайте его, он детский писатель, слушайте меня, я классик, — сказал правый пьяный.
— Нет, это надо же — так нажраться в полдень на жарище! — поразился Вельтман.
— Кто нажирался? — еле ворочая языком, проговорил Нечипоренко. — Посидели, поговорили.
На станции академика Петрова встречал на дровнях Собакин.
— Симпатичный извозчик, — шепнула жена академика, — молодой, кареглазый. Беззаботный. Лицо интеллигентное.
Дровни плыли медленно, плавно и неторопливо смещались придорожные сугробы, деревья в снегу; безлюдье, мороз, заколоченные дачи, дальний собачий лай. Холод был беззлобен, старинная дореволюционная тишина царила на Часовой горе.
— Приехали! — Извозчик соскочил с дровней, пошел отворять чугунные ворота.
— Матушки, да тут от станции два шага! — воскликнул академик. — Прекрасно пешком дошли бы. Вещей у нас немного.
— Должны у меня быть в жизни воспоминания? — Старики загляделись на белозубую улыбку Собакина и заулыбались в ответ. — Вот теперь век буду помнить: великого ученого вез. Ой, нет, нет, платы не берем, что вы, да я и не извозчик вовсе, я знакомый Ванды Федоровны, мой отец неподалеку дачу снимает.
Всем обитателям пансионата Виллы Рено хотелось посмотреть на нобелеата; кто не вышел встречать его на крыльцо, старался попасться ему на глаза в проходной гостиной при входе, иные глядели в окна. Постояльцы, хозяева, весь увиденный со стороны уклад здешней жизни поразили академика и жену его. Все тут было как в России прежней, время словно остановилось несколько лет назад. У этих переселенцев, вечных дачников, был свой, совершенно на особицу, жизненный опыт вести полуфермерскую-полуусадебную жизнь, они не претерпевали голода девятнадцатого и двадцатого годов, не ведали красного террора, волны эпидемий, насилия, убийств миновали их. Они мало знали о своей родине, помнили ее такой, какой оставили, как не видевшие покойника помнят его живым, они говорили на языке, почти несуществующем (на этом несуществующем, слегка подзабытом русском потом писал Набоков), прежнем, не слыхивали слов «Рабкрин» и «Наркомвнудел», например, им были неведомы новые праздники, для них не отменяли старых Здесь жили реликтовой русской жизнью, этнографический феномен, театр для актеров.
Но вот явились, приехали на дровнях зрители.
Какие чудные бутафорские уголки, мизансцены, радующие душу декорации были явлены им! Особым сиянием высвечивались в оранжерейном воздухе хранимые под колпаком виртуального вневременного шапито обычные предметы бытия: кухонная печь в голубых изразцах, чуть облупившийся толстобокий кувшин белой эмали, низкий потолок с укосами контрфорсов на мансарде, где коротали время зеленые, расписанные цветами и фигурами деревянные шкафы с сундуками да лежащие на полу в холоде померанцы, антоновка, ранет, белый налив. Алела рябина на мху между рам заклеенных окон, звучал девичий смех, высвечивало солнце снегирей на снегу.
— Маруся, правда академик Петров похож на Санта-Клауса? Такой же сияющий, великолепный, с ярко-белой бородой, а после лыжной прогулки румяный.
— Правда, Освальд.
— Он как рождественский подарок, — неожиданно сказала Таня, сосредоточенно надвигая перед зеркалом на лоб шляпку из выдолбленной тыквы.
Они переодевались и гримировались перед рождественским спектаклем. Решено было начать представление с «Гимна флоре, или Хвалебной песни овощам, цветам и травам». Гимн собирались исполнять на Пасхальной неделе, но в честь академика Петрова, великого огородника-любителя, почли за лучшее обнародовать песнопение зимой.
Зрители уже расселись в гостиной, занавес из занавесок трепетал, трижды отзвонили в колокольчик. Перед занавесом появилась Алиса, дочь садовника, в костюме лютика, в венке из бумажных лютиков (в трех магазинах ее отца, петербургском, выборгском и териокском, торговали не только настоящими цветами, но и искусственными) и, трепеща, громко произнесла:
— «Гимен Флоре»!
С боков из-за занавеса выскочили Таня-тыква и Освальд-репейник, выкрикнув: «Или Хвалебная песнь цветам, овощам и травам!», добежали до Алисы, то бишь до середины занавеса, и в четыре руки занавес открыли. Собакин-старший, встряхнув головою, ударил по клавишам пианино, ему вторили кларнет и гитара, Вышпольский и Ясногорский., а расположившиеся поначалу в виде живой картины (кто замер на одном колене, кто застыл, воздев руки, на корзине, кто полулежа) фрукты и овощи запели и заплясали:
(Пели они на голоса, как заправский хор.)
Академик, знавший, в отличие от многих других слушателей, что «кукурбита» — это тыква, а «фазеолюс» — фасоль, не мог без смеха глядеть на уморительно серьезных исполнителей.
При слове «ванда» артисты простерли руки к обеим Вандам, а при слове «любка» — к Либелюль, находившейся на сцене и изображавшей вишню.
Слова второго куплета латыни не содержали, все по-русски, так и плясали, кто барыню, кто кадриль, все это с пением, не снижая темпа, в руках ветки, ботва, веник в бумажных цветах, голик, охапки сена:
Бас, то есть Собакин-младший, пел под Шаляпина, да еще и окал:
На третьем куплете хор, миманс, танцоры разделились на две группы, славянофилы да западники, каждый выкрикивал свое в пику оппонентам:
Репейник с нарциссом уже тузили друг друга, не переставая петь.
Тут замерли все; высочайшим дискантом вывела Ирис:
— Ту-бе-ро-за…
И, завершая, грянули хором, гаркнули, рявкнули, тряся головами, размахивая венками и вениками, топая ногами под музыку боевую, бравурную: