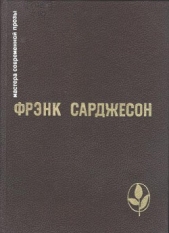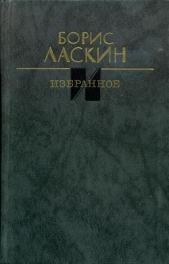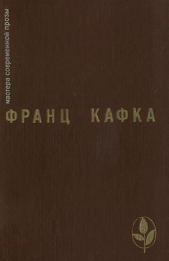Избранное
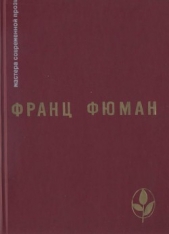
Избранное читать книгу онлайн
В книге широко представлено творчество Франца Фюмана, замечательного мастера прозы ГДР. Здесь собраны его лучшие произведения: рассказы на антифашистскую тему («Эдип-царь» и другие), блестящий философский роман-эссе «Двадцать два дня, или Половина жизни», парафраз античной мифологии, притчи, прослеживающие нравственные каноны человечества («Прометей», «Уста пророка» и другие) и новеллы своеобразного научно-фантастического жанра, осмысляющие «негативные ходы» человеческой цивилизации.
Завершает книгу обработка нижненемецкого средневекового эпоса «Рейнеке-Лис».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, это ужасно! — подтвердил З. и прищелкнул пальцами. — К любой власти примазывается всякая сволочь, тут ты прав, это ужасно!
Они еще некоторое время стояли на месте, наблюдая за тем, как туманные пары, словно шторами, занавешивают клетки, а затем снова начал З., и снова так, будто говорит сам с собой, но сейчас слова его звучали серьезно, без малейшей иронии:
— А ведь бывают случаи совсем другого рода, в них черпаешь мужество и уверенность, и они навсегда сохраняются в памяти. Это случилось три года назад в учебном батальоне, в Польше, в какой-то богом забытой глуши. Как-то утром пожаловали к нам два мужлана, не то поляки, не то украинцы, кто их разберет, этакие типично восточные фигуры, отчаянное хамло, патлатые, в лохмотьях, уже недель пять не умывавшиеся, от них за версту разило водкой и потом, — словом, неотесанные чурбаны, не люди, а медведи, и кого же они к нам приволокли? Трех еврейчиков, руки, как полагается, связаны за спиной, трех партизан, прятавшихся в лесу, двух женщин и мужчину. «Мы пришли сдать начальству этих сукиных детей, — заявили мужики, — мы этих гадов знать не хотим, вздерните их на том дубе, лучшего они не заслуживают». Сказав это, они отвесили земной поклон и сунули нам этих Ицигов в руки. Натурально, мы угостили мужиков шнапсом и выдали им положенное, но не в этом же дело! Если уж у полузверей пробуждается сознание долга, если и они начинают понимать, кто их истинный друг, а кто враг, если под нашим влиянием даже у поляков появляется элита, происходит отбор пригодной крови, которая инстинктивно тянется к нам, — если встречается подобное, то это лишний раз подтверждает нашу историческую миссию и убеждает нас, что лучшие люди Европы на нашей стороне. А ведь лучших всегда немного, на то они и лучшие: эсэсовские интернациональные легионы, огненные кресты, железная гвардия, ку-клукс-клан, Квислинг и Дегрель, Голубая дивизия Франко, хорватские усташи и греческие эвзоны. И может быть, не далее как завтра польский Черный полк!
П. благодарно посмотрел на друга и сказал с волнением:
— Хорошо это знать и то и дело воскрешать перед мысленным взором! А не то и в самом деле иной раз жуть берет и холодеет сердце. — Но тут лицо молодого ефрейтора просияло счастливой улыбкой. — Послушай, — сказал он, — мне кажется, я все-таки нашел ключ к Эдиповой загадке.
— Что ж, послушаем! — загорелся З.
— Нет, на сей раз я сам продумаю все как следует, — сказал ефрейтор, и З. уже хотел упрекнуть его в том, что подло что-то скрывать от товарища и друга, раздразнив его любопытство, но тут кругом защелкали каблуки армейских сапог, чей-то голос крикнул: «Смирно!» — и оба приятеля стали навытяжку. Из своей палатки вышел капитан, и, когда он увидел обоих друзей, стоящих по стойке «смирно», правая рука у козырька кепи, он пальцем поманил их к себе.
— Кого я вижу! — воскликнул капитан. — Иокаста и Эдип! — Он благосклонно разглядывал обоих солдат, вытянувшихся в струнку и щеголяющих молодцеватой выправкой, и разрешил им стоять вольно. — Хорошие у нас задались деньки, верно? — И не дожидаясь ответа: — Ну как, все решаете мировые проблемы? Метафизика трагического! Назначение хора! «Я» и «сверх-я»! Катарсис и жизнеощущение героя!
— Так точно, господин капитан! — воскликнули залпом оба, снова став навытяжку, а П. простодушно добавил:
— Вот только насчет Эдиповой вины что-то никак не сообразим.
Капитан с улыбкой указал им на палатку. Полчаса он может им уделить, сказал он, с условием, что они побеседуют, как в свое время беседовали в ФВШ, не как подчиненные с начальником, а как студенты с учителем, нет, лучше как туристы, совершающие горное восхождение, беседуют на крутой тропе, ведущей к вершине человеческой мудрости. Он произнес это с заметной радостью в голосе и даже с каким-то чувством облегчения и, желая показать, что приветствует их не как подчиненных, а как гостей, собственноручно приподнял полотнище у входа и пропустил слегка оробевших молодых людей вперед с сердечным: «Прошу, прошу, господа!» — после чего, прикрепив полотнище к штоку на крыше, отчего в широкий дверной проем хлынул яркий свет, затопив обычные сумерки внутри палатки, пригласил студентов занять места на обструганных добела стульях, стоящих вокруг стола с картами, а сам уселся на приткнувшуюся за столом походную кровать.
— А теперь рассказывайте, как вы себе это представляете, — предложил он, и З., искусно обобщая, вкратце изложил все их попытки разобраться в вопросе, подробнее остановившись на беседе о расовой душе, о моральных ценностях и их фиксации в соответствующих законах. При этом, надо отдать ему должное, он нисколько не выделял себя, не подчеркивал, что львиная доля достигнутых в этих спорах, но так или иначе отвергнутых результатов принадлежит ему, а также ни словом не обмолвился о многочисленных просчетах друга. Он точно докладывал об ученом совещании, на котором присутствовал в качестве заинтересованного, но нейтрального слушателя, и профессор слушал его с напряженным вниманием, все более кипя душой и внутренне негодуя. Боже мой, думал он, что за чудовищный бред, ведь это же наглая фальшивка все того же невообразимого болвана Розенберга, подобное трудно себе и представить! Ему и в голову не пришло, что не кто иной, как он сам, посеял в умы молодых людей семена этих ядовитых плевел; он слушал разглагольствования студента насчет расовой души, и в нем бушевал гнев; слышал сентенцию: «Дикарь так и останется дикарем», и щеки его дергались от сдерживаемого возмущения. Что за чепуха, думал он, что за мерзопакостная философия! Стыд и позор! Не существует никакой расовой души, и на свете нет ничего неизменного; panta rhei, все течет, движение — основной принцип бытия, стимул истории, всякого духовного развития, с подобной неизменной нордической душой мы бы и сейчас бродили по тундре с челюстью гориллы и каменным топором в кулаке! А вся эта болтовня о крови, что за дикая чушь! Как будто кровь не химическое вещество, незаменимое биологически, но так же мало значащее для характера и души, как консистенция мочи или желчной секреции! Думая об этом, он уже не слушал доклада, но тут опять прислушался, и, так как извержение благоглупостей продолжалось, он уже хотел было досадливым словом оборвать докладчика и слово уже едва не сорвалось с его языка, но вдруг, как это нередко бывает, произошло одно из тех неожиданных изменений, которые уже в ближайшую минуту кажутся вам чем-то само собой разумеющимся, а именно: стоит вам шагнуть за пределы своего «я», и вы будто бы стоите в воображаемом пространстве невесомости, откуда видите себя, и свои поступки, и переживания словно демонстрируемыми на киноэкране, — как некая бестелесная, но ясно ощутимая рука возвращает вас к себе, и вы внезапно осознаете — нет, вам внезапно открывается, что вы, и не кто иной, как вы, смутили эти души, и стыд и отвращение к себе настигают вас прыжком пантеры; охваченный чувством живейшего раскаяния, профессор был уже готов возложить руки на головы обоих студентов и, заглянув им в глаза, сказать: «Послушайте, ребята, то, что я вам наболтал, чистейшая чепуха, ничего общего с наукой не имеющая; мне стыдно перед вами, ибо я это сделал из трусости». И он уже собирался открыть рот, и губы его уже складывались в слова — он был одновременно на пороге этого решения, равно как и на вершине своего духовного растления, — как вдруг до него донесся вопрос его ученика З.: «Не правда ли, господин профессор?» И вот, точно сработал скрытый механизм, другая рука, не та, что принуждала ученого к саморазоблачению, заставила его кивнуть головой, закрепляя этим кивком, словно печатью, ложь и скверну, и тут ужас объял профессора, он ужаснулся себе и все продолжал кивать. Он ощутил противный вкус во рту и надвигающийся приступ рвоты; сделав над собой усилие, он сглотнул слюну и, оттолкнувшись обеими руками от стола, выпрямился на своем сиденье, и тут у него возникло смутное, словно силишься прочитать неразборчивую надпись, намерение — сказать этим юнцам, что его свободное время истекло, и он уже хотел раскрыть рот, чтобы произнести это, и только об этом одном и думал, как вдруг у него потемнело в глазах и в уши ворвалась жужжащая тишина, а между тем З. окончил свой доклад, и ветер порывами задувал из парка, и тогда профессор поднял глаза, и увидел доверчиво обращенные к нему взгляды обоих молодых людей, и подумал, что должен сейчас же, независимо от того, что ему предстоит, сказать правду, всю правду, в то же время зная, что он этого не сделает, и подумал, что так больше продолжаться не может, ему надо на что-то решиться, может быть, в самом деле подняться с места и попрощаться с обоими, — и тогда он услышал, как молодой ефрейтор, его любимый солдат и любимый ученик, о ком он неоднократно думал, что тот мог быть его сыном, спросил: